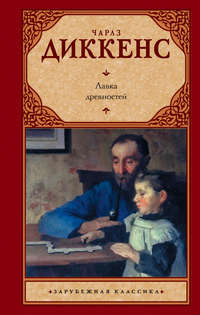
Лавка древностей
Странники шли весь день, а ночь провели в маленьком коттедже, где сдавались койки. Утро застало их уже на ногах, и хотя первое время идти им было трудно, все же они вскоре побороли усталость и быстро продолжали свой путь. Они часто останавливались, но не надолго, и снова шли дальше, несмотря на то что с утра им удалось только раз подкрепиться едой. Было уже около пяти часов пополудни, когда они поравнялись с группой крестьянских домиков, и девочка стала грустно заглядывать в каждый по очереди, не зная, где можно попроситься отдохнуть и купить немного молока.
Сделать выбор оказалось нелегко, потому что она робела, боясь получить отказ. В одном доме плакал ребенок, в другом раскричалась на кого-то хозяйка. Тут слишком убого, там слишком людно. Наконец она остановилась у дома, где вся семья собралась за столом, – остановилась главным образом потому, что увидела старика, сидевшего в мягком кресле ближе всех к очагу, и подумала, что он, верно, тоже дед и сжалится над ее спутником.
Кроме старика, за столом сидели хозяин с женой и трое ребятишек, загорелых и румяных, как яблочки.
Просьбу Нелл сейчас же уважили. Старший мальчик побежал за молоком, второй притащил к дверям две табуретки, а самый младший вцепился матери в юбку и уставился на незнакомцев, держа загорелую ручонку козырьком у глаз.
– Да хранит вас Бог, добрый человек! – дрожащим, тоненьким голосом проговорил старик. – И далеко вы путь держите?
– Да, сэр, далеко, – ответила Нелли, так как дед молча взглянул на нее.
– Из Лондона? – спросил старик. Девочка ответила утвердительно.
А! Он тоже часто бывал в Лондоне – ездил туда с подводами. Последний раз года тридцать два назад, – говорят, с тех пор там все изменилось. Что ж, очень возможно! Его самого тоже не узнать. Тридцать два года – немалый срок, а восемьдесят четыре – немалый возраст, хотя он знавал людей, которые доживали до ста, и здоровье у них было не такое крепкое, как у него, – куда там, и сравнивать нельзя!
– Садитесь, добрый человек, вот сюда, в кресло, – сказал старик, изо всех своих слабых сил постучав палкой по каменному полу. – Возьмите понюшку из моей табакерки. Я сам редко этим балуюсь, очень уж дорог табак, но иной раз вот как подкрепишься! Ведь вы по сравнению со мной совсем юноша. У меня сын был бы такой, доживи он до ваших лет, да завербовали его в солдаты, и вернулся он домой без ноги. Бедный мой сынок все просил, чтобы его схоронили у солнечных часов, на которые он лазал еще мальчишкой. Вот и сбылось его желание, можете сами посмотреть могилу. Мы следим за ней, подстригаем траву.
Старик покачал головой и, обратив к дочери слезящиеся глаза, сказал, что больше он не обмолвится об этом ни словом и, стало быть, нечего ей тревожиться. Он никого не хочет огорчать, а если кто-нибудь огорчился, пусть не взыщет, вот и все.
Принесли молоко, девочка взяла свою корзинку, выбрала что повкуснее для деда, и они сытно поужинали. Убранство комнаты было, разумеется, очень скромное – несколько простых стульев и стол, угольный буфет с фаянсовой и глиняной посудой, пестро расписанный поднос, на котором была изображена дама в ярко-красном платье, прогуливающаяся под ярко-голубым зонтиком, по стенам и над камином обычные цветные литографии в рамках на темы из Священного Писания, старенький пузатый комод, часы с восьмидневным заводом да несколько ярко начищенных кастрюль и чайник. Но все это содержалось в порядке и чистоте; и, оглядевшись по сторонам, девочка почувствовала здесь довольство и уют – то, от чего она давно отвыкла.
– А далеко отсюда до какого-нибудь города или деревни? – спросила она хозяина.
– Все пять миль будет, милочка, – последовал ответ. – Да ведь вы не пойдете на ночь глядя?
– Нет, пойдем, пойдем, Нелл, – заторопился ее дед, сопровождая свои слова знаками. – Будем в пути хоть до полуночи. Чем дальше уйдем, дорогая, тем лучше.
– Тут неподалеку есть теплый сарай, – сказал хозяин, – а то можно переночевать в гостинице «Борона и плуг». Не в обиду вам будь сказано, но, по-моему, вы оба устали. Куда вам спешить?..
– Нет, мы спешим, – волнуясь, прервал его старик. – Пойдем, Нелл! Прошу тебя, пойдем!
– Нам правда нужно идти, – сказала девочка, подчиняясь желанию деда. – Большое вам спасибо, но мы остановимся где-нибудь дальше. Дедушка, я готова.
Однако хозяйка заметила по походке маленькой странницы, что у нее стерта нога, и, будучи женщиной, а к тому же и матерью, она до тех пор не отпустила девочку, пока не промыла ей больное место и не смазала его каким-то простым домашним снадобьем. Все это было сделано так заботливо и с такой нежностью – пусть заскорузлой и огрубевшей рукой, – что переполненное благодарностью сердце Нелл не позволило ей сказать ничего другого, кроме трепетного «да благословит вас Бог». Она оглянулась лишь тогда, когда домик остался позади, и, оглянувшись, увидела, что вся семья, не исключая и дряхлого старика, стоит посреди дороги, глядя им вслед. Приветливо кивая друг другу и махая рукой (причем с одной стороны это прощанье вряд ли обошлось без слез), они расстались.
Шагая с трудом и гораздо медленнее, чем раньше, дед и внучка прошли около мили, но вот позади послышался стук колес, и они увидели быстро нагонявшую их повозку. Поравнявшись с ними, возница придержал лошадь и внимательно посмотрел на Нелли.
– Это не вы останавливались отдохнуть вон в том доме? – спросил он.
– Да, сэр, – ответила девочка.
– Так вот, меня просили подвезти вас, – сказал возница. – Нам по дороге. Дайте руку, хозяин, взбирайтесь сюда.
Это было большим облегчением для измученных, еле передвигавших ноги путников. Тряская повозка показалась им роскошным экипажем, а самая езда восхитительной. Нелли не успела устроиться на соломе в задке, как тут же заснула – впервые за весь день.
Она открыла глаза, когда повозка остановилась у поворота на проселочную дорогу. Не поленившись спрыгнуть, возница помог ей слезть и сказал, что город вон в той стороне, где деревья, и что к нему надо идти тропинкой, которая ведет через кладбище. Туда они и пошли усталым, медленным шагом.
Глава XVI
Когда они подошли к кладбищенской калитке, откуда начиналась тропинка, солнце уже садилось и, подобно дождю, который кропит праведных и неправедных, бросало свои теплые блики даже на место успокоения мертвых, обещая им, что утром оно засияет снова. Церковь была старая, замшелая, сплошь увитая по стенам и у паперти плющом. Сторонясь памятников, плющ взбирался на могильные холмики, где спал скромный бедный люд, и сплетал ему венки – первые полученные им венки, которые увянут не так скоро и, может статься, будут гораздо долговечнее тех, что глубоко высечены на камне или мраморе и прославляют добродетели, почему-то стыдливо замалчиваемые в течение многих лет и открывшиеся только душеприказчикам и убитым горем наследникам усопших.
Лошадь священника глухо постукивала копытами среди могил и щипала траву во славу покойных прихожан, а также в подтверждение текста о бренности плоти, легшего в основу последней воскресной проповеди. Тощий осел, который, не будучи приобщен к церковному причту, все же был не прочь и сам дать собственное толкование этому тексту, стоял один в загоне и, навострив уши, не сводил голодных глаз со своей причисленной к духовному званию товарки.
Старик и девочка свернули с усыпанной гравием дорожки и пошли между могилами, где их усталым ногам было легче ступать по мягкой земле. Зайдя за церковь, они услышали неподалеку голоса, а вскоре увидели и тех, кому эти голоса принадлежали.
Два человека, удобно расположившиеся на траве, так были поглощены своим делом, что не сразу заметили подошедших. Люди эти, видимо, принадлежали к братству бродячих комедиантов – к той их разновидности, которая показывает проделки Панча, ибо сей герой с крючковатым носом, и подбородком, и сияющей физиономией, скрестив ноги, восседал на памятнике позади них. Невозмутимость нрава этого персонажа, может быть, никогда еще не проявлялась с большей очевидностью, потому что привычная улыбка не сходила с его уст, хотя сидел он в крайне неудобной позе, поникнув всем своим бесформенным, хлипким телом и свесив длинный колпак на несуразно тонкие ноги, с риском каждую минуту потерять равновесие и упасть вниз головой.
Остальные действующие лица лежали кто на траве у ног своих хозяев, кто вповалку в продолговатом плоском ящике. Супруга и единственное чадо Панча, лошадка на палочке, лекарь, иностранный джентльмен, который по незнанию языка объясняется во время спектаклей только при помощи слова «шалабала», повторяемого троекратно, сосед-радикал, не желающий считаться с тем, что жестяный колокольчик – это все равно что орган, палач и дьявол, – все были здесь. Их хозяева, видимо, пришли сюда, чтобы произвести необходимую починку реквизита, так как один из них связывал ниткой развалившуюся виселицу, а другой, вооружившись молотком и гвоздиками, прилаживал новый черный парик на оплешивевшую от побоев голову соседа-радикала.
Когда старик и его маленькая спутница подошли к ним, они бросили работу и с любопытством уставились на незнакомцев. Первый, по всей вероятности кукольник, – маленький человечек с веселой физиономией, лукавыми глазками и красным носом, – судя по всему, перенял кое-какие черты характера у своего героя. Второй – он, должно быть, собирал деньги с публики – производил впечатление человека недоверчивого и очень себе на уме, что, может статься, тоже объяснялось родом его занятий.
Маленький кукольник первый приветствовал подошедших кивком головы и, поймав взгляд старика, устремленный на кукол, высказал предположение, что ему, наверно, никогда еще не приходилось видеть Панча вне сцены. (Кстати сказать, Панч показывал в эту минуту кончиком колпака на велеречивую эпитафию и потешался над ней от всей души.)
– А почему вы пришли с починкой именно сюда? – спросил старик, опускаясь рядом на траву и с нескрываемым восхищением глядя на кукол.
– Да понимаете ли, – ответил маленький человечек, – у нас сегодня представление в здешнем трактире, и не годится, чтобы наши актеры ремонтировались у всех на виду.
– Не годится? – воскликнул старик, знаками приглашая Нелл слушать. – А почему не годится? Почему?
– Потому что тогда не останется никакой иллюзии, а без иллюзии смотреть будет неинтересно, – последовал ответ. – Вот, скажем, если бы лорд-канцлер принимал вас запросто, без парика, – питали бы вы к нему почтение? Разумеется, нет!
– Правильно! – Старик боязливо дотронулся до одной из кукол и, засмеявшись дребезжащим смешком, тотчас же отдернул руку. – Значит, сегодня вечером у вас будет представление? Да?
– Таковы наши намерения, почтеннейший, – подтвердил маленький балагур. – И, если я не ошибаюсь, Томми Кодлин в эту самую минуту подсчитывает, во сколько нам обойдется встреча с вами. Ничего, Томми, не унывай, убыток будет небольшой!
И кукольник подмигнул, ясно давая понять, какого он мнения о финансах обоих путников.
Мистер Кодлин – личность угрюмая и ворчливая – рывком снял Панча с надгробного памятника и, швырнув его в ящик, ответил:
– Одним фартингом больше, одним меньше – мне все равно, но меру-то надо знать! Постоял бы с мое перед занавесом да посмотрел на публику, тогда научился бы разбираться в людях.
– Эх, Томми! Сгубило тебя твое новое ремесло! – возразил ему товарищ. – Играл ты привидения в настоящем театре на ярмарках – и во все верил, кроме привидений. А теперь кругом изверился. Переменился человек, просто не узнать!
– Ну и пусть! – сказал мистер Кодлин философически разочарованным тоном. – Зато я набрался ума-разума, хоть подчас и сам об этом жалею.
Он перешвырял всех кукол в ящике с таким видом, точно они не вызывали у него никаких других чувств, кроме презрения, и, вынув одну, показал ее своему приятелю:
– Вот, полюбуйся! Джуди опять вся в лохмотьях. Иголки с ниткой у тебя, конечно, не найдется?
Кукольник покачал головой и сокрушенно почесал в затылке, посмотрев на примадонну, представшую перед ним в столь неприглядном виде. Девочка поняла всю затруднительность их положения и робко сказала:
– У меня в корзинке есть иголка и нитки, сэр. Дайте я починю. Мне это легче сделать, чем вам.
Мистер Кодлин и тот не нашел что возразить против предложения, которое пришлось так кстати. Опустившись на колени перед ящиком, Нелли сразу же принялась за работу и справилась со своей задачей на славу.
Пока она возилась с куклой, маленький балагур с интересом присматривался к ней, и интерес этот ничуть не уменьшался, когда его взгляд падал на ее беспомощного спутника. Как только Нелли кончила починку, он поблагодарил ее и спросил, куда они идут.
– Сегодня мы, пожалуй… дальше не пойдем, – ответила девочка, глядя на деда.
– Если вы ищете, где переночевать, – сказал кукольник, – советую вам остановиться в той же гостинице, где и мы. Видите низенький белый дом? Там дешево берут.
Несмотря на усталость, старик готов был всю ночь просидеть здесь со своими новыми знакомцами, но такой совет пришелся ему по душе. Они поднялись и все вместе вышли с кладбища; старик, как очарованный, держался поближе к ящику с куклами, висевшему у маленького балагура на лямке через плечо, Нелли вела деда за руку, а мистер Кодлин медленно плелся сзади и по привычке, выработавшейся у него во время городских гастролей, бросал взгляды то на колокольню, то на верхушки деревьев, точно выискивая окна гостиных и детских, под которыми стоило бы поставить раек.
Содержатели гостиницы – тучный старик и его жена – не отказались пустить новых постояльцев и, сразу же почувствовав расположение к Нелли, стали наперебой восхищаться ее миловидностью. Кроме двоих кукольников, в кухне никого не было, и девочка благословила случай, приведший их в такое хорошее место. Хозяйка удивилась, узнав, что они пришли пешком из Лондона, и стала допытываться о цели их путешествия, но Нелли не стоило большого труда отделаться от этих расспросов, так как старушка сразу почувствовала, насколько они неприятны ей, и заговорила о другом.
– Джентльмены просили подать им ужин через час, – сказала она, подводя Нелли к стойке, – и я советую вам поесть вместе с ними. А пока тебе надо немного подкрепиться, ведь, наверно, умаялась за день. Да не беспокойся ты о своем старичке! Выпей вот это сама, а потом и его угостим.
Но так как девочку никакими силами нельзя было заставить уйти от деда или полакомиться чем-нибудь, не отдав ему первому большей доли угощения, старушке пришлось угостить сначала его. Они подкрепились и вместе со всеми обитателями гостиницы поспешили в пустую конюшню, где стоял раек и где при свете нескольких свечей, налепленных на подвешенный к потолку обруч, должно было состояться представление.
И вот наш мизантроп, мистер Томас Кодлин, надудевшись на губной гармонике до полной потери сил, стал по правую сторону от пестрого занавеса, скрывающего кукольника, засунул руки в карманы и приготовился отвечать на вопросы и замечания Панча, прикидываясь, что его связывают с этой личностью теснейшие приятельские отношения, что нет границ его вере в своего закадычного друга, который наслаждается жизнью в этой храмине и в любое время и при любых обстоятельствах сохраняет столь пленительную веселость и бойкость ума. Мистер Кодлин исполнял свою роль с видом человека, приготовившегося ко всему самому худшему и полностью положившегося на волю судьбы, что не мешало ему после каждой своей, хотя бы и мимоходом брошенной реплики медленно обводить глазами публику и с особенным вниманием присматриваться к хозяину и хозяйке, проверяя, какое впечатление производит спектакль на них, ибо это могло иметь немаловажные последствия в смысле ужина.
Но мистер Кодлин беспокоился напрасно: публика горячо аплодировала актерам, а щедрость, с какой поступали добровольные взносы, еще больше свидетельствовала о всеобщем восторге. Чаще и громче всех смеялся старик. Голоса Нелл не было слышно, – она, бедняжка, склонилась к деду на плечо и так крепко уснула, что все его попытки разбудить ее и убедить повеселиться вместе с ним ни к чему не привели.
Ужин был очень вкусный; но она и есть не могла от усталости и все-таки продолжала сидеть рядом со стариком, дожидаясь, когда его можно будет увести спать и поцеловать на ночь. А он, не чувствуя ни ее забот, ни ее тревоги, с блуждающей улыбкой восторженно ловил каждое слово своих новых друзей и согласился уйти наверх лишь тогда, когда те, громко зевая, отправились спать.
Деду и внучке отвели на ночь чердак, перегороженный пополам, но они и этому были рады. Старик долго не мог уснуть и попросил Нелл посидеть рядом с ним, как она сиживала раньше. Девочка сейчас же откликнулась на его зов и не отходила от него до тех пор, пока он не забылся сном.
В ее уголке чердака было крохотное слуховое оконце, и она подошла к нему, дивясь царившей вокруг тишине. Старая церковь, могилы, освещенные луной, перешептывающиеся между собой деревья – все это навевало на нее множество мыслей. А потом она закрыла окно и, сев на кровать, задумалась о том, что ждет их впереди.
Денег у нее осталось немного – совсем немного. Скоро они кончатся, и им придется просить милостыню. Есть, правда, один золотой, и может настать время, когда его ценность возрастет для них во сто крат. Золотой этот лучше припрятать, оставить про черный день, когда надеяться уже будет не на что.
И она зашила золотую монету в платье, успокоившись, легла в постель и уснула глубоким сном.
Глава XVII
Ясный день, занявшийся в маленьком оконце, смело заявил о своем родстве с такими же ясными глазами Нелли и разбудил ее. Девочка в испуге приподняла голову с подушки, недоумевая, каким образом она очутилась в этой незнакомой комнате после того, как заснула, казалось бы, только вчера вечером, у себя дома. Но не прошло и минуты, как ей вспомнилось все, и она вскочила с кровати, полная надежды и веры в будущее.
Час был ранний, старик еще спал, и Нелли вышла и долго гуляла по кладбищу, стряхивая на ходу росинки с высокой травы и то и дело сворачивая в сторону, в густые заросли, чтобы не ступать по могилам. Она испытывала странное удовольствие, бродя по этой обители мертвых, читая эпитафии на могильных плитах, под которыми покоились добрые люди (а здесь было похоронено много добрых людей), и со все возрастающим интересом переходила от одной могилы к другой.
На кладбище было очень тихо, как и подобает такому месту. Тишину его нарушало только карканье грачей, свивших себе гнезда на высоких старых деревьях и перекликавшихся друг с другом в вышине. Сначала каркнула одна глянцевито-черная птица, описывавшая круги над своим нескладным жильем, которое покачивалось из стороны в сторону на ветру, – каркнула сдержанно, видимо невзначай, как бы разговаривая сама с собой. Ей ответила другая, и тогда первая каркнула громче; потом в разговор вступила третья, за ней четвертая; и первая, возмущенная тем, что ей осмелились перечить, продолжала настаивать на своем, с каждым разом все упорнее и упорнее. Птицы, молчавшие до сих пор, подали голос с нижних, верхних, средних веток, справа и слева и с самых верхушек деревьев. Другие подоспели к ним с обомшелых церковных башенок, с карнизов старой колокольни и присоединились к общему гомону, который то разгорался, то затихал, то поднимался с новой силой, то опять шел на убыль, но не прекращался ни на минуту. И эта оглушительная перепалка сопровождалась полетами взад и вперед, непрестанной переменой мест, перепархиванием с ветки на ветку, точно птицы издевались и над былой неугомонностью тех, кто недвижно покоился теперь под дерном и мхом, и над бесцельной борьбой, на которую человек кладет все свои силы.
То и дело поднимая глаза на деревья, откуда шли эти звуки, и чувствуя, что они сообщают такой покой кладбищу, какого не могла бы придать ему самая глубокая тишина, девочка медленно переходила от могилы к могиле, заботливой рукой оправляла плети ежевики, не дававшие зеленым холмикам осыпаться, и заглядывала сквозь оконную решетку в церковь, где на пюпитрах лежали почти истлевшие молитвенники, а с деревянных перил, обнажая доски, свисало сукно, когда-то зеленое, теперь же покрытое пятнами плесени. Она видела скамьи, такие же высохшие и пергаментно-желтые от времени, как те убогие старики и старухи, которые сиживали на них из года в год, видела покоробленную купель, в которой младенцы получали имя при крещении, бедный алтарь, у которого они преклоняли колена, став взрослыми людьми, простые, покрашенные черной краской носилки, которые принимали на себя их тяжесть, когда прохладная, тихая старая церковь в последний раз оказывала им гостеприимство. Все здесь было изношенное, все незаметно, медленно увядало. Даже веревка, спускавшаяся в придел с колокольни, была вся обтрепанная и седая от старости.
Нелл смотрела на скромный надгробный камень с надписью, говорившей о том, что здесь покоится молодой человек двадцати трех лет, умерший пятьдесят пять лет назад, как вдруг позади послышались чьи-то нетвердые шаги, и, оглянувшись, она увидела сгорбленную, дряхлую старуху; та подошла к ней и попросила прочесть ей вслух эпитафию. Когда Нелл кончила читать, старуха поблагодарила ее и сказала, что она давным-давно заучила эти слова наизусть, но разобрать их теперь сама не может.
– Вы его мать? – спросила девочка.
– Я была его женой, дитя мое.
Как! Это – жена двадцатитрехлетнего человека? Да, правда! Ведь с тех пор прошло пятьдесят пять лет!
– Тебе странно это слышать, – сказала старуха, покачивая головой. – Ну, что ж, не ты первая, постарше тебя люди удивлялись. Да, я была его женой. Смерть меняет нас не больше, чем жизнь, дитя мое.
– А вы часто приходите сюда? – спросила девочка.
– Летом часто, – ответила старуха. – Приду, посижу… Раньше все ходила погоревать, поплакать около могилы, но это было давным-давно, Господи, твоя воля! Маргаритки отсюда ношу домой, когда они распускаются, – продолжала она после недолгого молчания. – За последние пятьдесят пять лет я ни одни цветы так не любила. Да… годы прошли немалые, состарили они меня.
И, обрадовавшись новому слушателю, хоть и ребенку, старуха пустилась рассказывать, как она со слезами и стенаниями вымаливала себе смерть, когда муж у нее умер, и как надеялась, придя сюда впервые молодой женщиной, полной безграничной любви и безграничного горя, что сердце ее на самом деле разорвется от тоски. Те дни давно миновали, и хотя печаль никогда не оставляла ее, все же с годами мучительная боль утихла, и посещение кладбища стало для нее долгом – но долгом приятным. Теперь, спустя пятьдесят пять лет, она говорила о покойном, словно он – юноша во цвете лет, приходился ей сыном или внуком, и превозносила его мужественность и красоту, сетуя на свою дряхлость и немощность. И в то же время она говорила о нем как о муже, ушедшем от нее будто только вчера, говорила о их грядущей встрече в ином мире и, отрешаясь от своего настоящего, вспоминая себя совсем юной, вновь переживала счастье той миловидной молоденькой женщины, которая, казалось, умерла вместе с ним.
Нелли оставила ее собирать цветы, росшие на могиле, и в задумчивости пошла назад в гостиницу.
Старик уже встал и оделся к ее приходу. Мистер Кодлин, по-прежнему обреченный иметь дело с прозаической стороной жизни, укладывал в свой узелок с бельем огарки, оставшиеся после вчерашнего представления, а его товарищ выслушивал комплименты от своих почитателей, толпившихся у конюшни, ибо те, не умея провести должную грань между ним и несравненным Панчем, отводили ему первое место после этого веселого разбойника и любили его ничуть не меньше. Приняв дань всеобщего поклонения, он явился в гостиницу, и они сели за завтрак все вместе.
– Куда же вы сегодня пойдете? – спросил маленький кукольник, обращаясь к Нелли.
– Я, право, не знаю… мы еще сами не решили, – ответила девочка.
– А мы собираемся на скачки, – сказал он. – Если вам с нами по пути и если вы не гнушаетесь нашим обществом, давайте пойдем вместе. А хотите одни странствовать, так и говорите, никто вас неволить не будет.
– Мы пойдем с вами, – сказал старик. – Нелл! С ними пойдем, с ними!
Девочка минуту подумала и, вспомнив, что ей скоро надо будет просить милостыню и что вряд ли найдется более подходящее место для этого, чем скачки, куда приезжает поразвлечься и повеселиться столько богатых леди и джентльменов, решила до поры до времени не отставать от кукольников. Она поблагодарила маленького балагура и, бросив застенчивый взгляд на его приятеля, согласилась идти с ними до города – если никто не будет возражать.
– Возражать? – воскликнул маленький балагур. – Ну, Томми! Прояви любезность хоть раз в жизни и скажи, что тебе хочется идти вместе с ними. Я же знаю, что хочется! Надо быть любезным, Томми!
– Коротыш! – сказал мистер Кодлин, который имел обыкновение говорить медленно, а есть быстро и жадно, что часто бывает свойственно философам и мизантропам. – Ты ни в чем не знаешь меры.