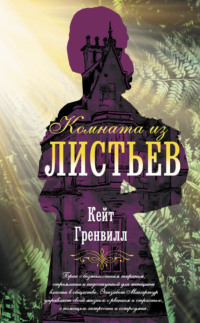
Комната из листьев
– Вы забываетесь, – осадил его дедушка. – Будьте так любезны, следите за своей речью, мистер Хейл. Или вы не видите, что здесь с нами юная леди?
Меня его слова удивили вдвойне. Во-первых, что бы ни имел в виду мистер Хейл, вероятно, это несло на себе печать греха; во-вторых, оказывается, девятилетняя девочка – юная леди, которую до́лжно оградить от того, что он подразумевал.
Мистер Хейл смерил меня взглядом. Наверно, тоже удивился, не меньше моего, что оборванка в юбке с заляпанным грязью подолом – это юная леди. Потом вместе с дедушкой они принялись тихо обсуждать извитость и жирность шерсти, а я раскачивалась на воротах – туда-сюда, туда-сюда, – обдирая грязь с башмаков о нижнюю перекладину, на которой оставался аккуратный ряд комков глины. Хотя смысла в том большого не было, поскольку моим башмакам суждено было отяжелеть от грязи сразу же, как только я слезу с ворот. Весеннее водянистое солнце, блеяние ягнят в поле, приглушенные голоса дедушки и мистера Хейла, баран с немигающими глазами, ожидавший, когда его спустят с поводка – все это я и по прошествии семидесяти лет помню в мельчайших подробностях, будто видела только вчера.
После ухода мистера Хейла, пока мы с дедушкой стояли среди овец, шуршавших и блеявших вокруг нас, он объяснил мне, зачем приобрел этого барана, отдав за него целых пятнадцать гиней – по мне, бешеные деньги, тем более что баран этот, на мой взгляд, ничем не отличался от любой другой овцы. Это замечательная крупная особь, сказал дедушка, здоровый активный самец, с великолепным руном. После того как он случит его с нашими овцами, родившимся ягнятам передадутся его мясистость, отменная шерсть и энергичность. Ну а затем запускается так называемый процесс внутристадного разведения: каждую весну отбираются самые лучшие овечки, которых спаривают с тем же сильным бараном и другими, что есть в стаде, чтобы получить нового крепкого самца и не допускать близкородственных случек.
Как только я поняла, восторгу моему не было предела. Казалось, это все равно что пытаться заглянуть в будущее, увидеть, что произойдет через десять лет, если избрать один путь, или убедиться, что лучше пойти другим.
Теперь, записывая свои воспоминания, я понимаю, что это относится не только к овцам, но и к людям.
Не быть слишком умнойС Брайди, дочерью преподобного Кингдона, мы дружили с раннего детства. Ферма Лоджуорси находилась близ реки, протекавшей у подножия холма, а дом священника стоял на вершине этого самого холма, возле церкви. Мы с Брайди почти все дни проводили вместе, а после того, как нам с мамой пришлось переселиться к дедушке, я зачастую и ночевала у нее, потому что от дома священника до фермы дедушки путь был неблизкий. Всем было проще, если я оставалась погостить у Кингдонов несколько дней подряд, нежели ходить туда-сюда. Мы с Брайди спали на одной кровати в ее комнате. Миссис Кингдон заходила к нам перед сном, подтыкала под нас одеяло и гасила светильник. Брайди была мне как сестра.
Мистер Кингдон был выпускником Оксфордского университета и считал, что приобретение знаний столь же насущная необходимость, как еда и питье. Всех своих сыновей он отправил в школу. Девочке, он полагал, в школу ходить необязательно, но сам много времени посвящал обучению Брайди. И заметил, что она более внимательна на его уроках, если занимается не одна, а с подругой. Я схватывала на лету, гораздо быстрее, чем Брайди, если уж говорить честно, и моя сообразительность доставляла ему удовольствие. Мы постигали такие дисциплины, как чтение, письмо, элементарная арифметика, заучивали королей и королев Англии и главные реки мира в алфавитном порядке. Латынь, но только в том объеме, чтобы суметь прочитать девиз на гербе Кингдонов: «Regis donum gratum bonum».[3]
Мистер Кингдон был доволен моими успехами, но, когда однажды он привел меня в свой кабинет, где показал список слов, которые попросил меня прочитать одно за одним, я почувствовала, что должна проявить осторожность. Как я догадалась? Что я могла об этом знать?
Я не объяснила бы ни тогда, ни теперь, почему решила скрыть, что умею хорошо читать. Первые слова, что показал мне мистер Кингдон, были очень, очень, очень легкими. Брайди, как и я, прочла бы их без труда. Потом пошли слова позаковыристей. Я продолжала читать, но медленнее. Мистером Кингдоном, я видела, владеют сложные чувства: любопытство, радость, удовлетворение. И еще что-то. Поэтому, дойдя до слова «подполковник», а оно довольно длинное, я запнулась. Сказала:
– Не могу его прочитать. – Хотя для меня это слово было таким же легким, как и все остальные.
И заметила, что мистер Кингдон расслабился, будто бы обрадовался. Я была разочарована. Почему он с такой готовностью принял мое поражение? Едва не брякнула: «О, теперь я вижу, что это – «подполковник»!». Но, еще будучи ребенком, я уже понимала, – хотя мне о том никто не говорил, – что мне лучше не кичиться своим умом.
Барана прикупилА потом к нам наведался Джон Лич. Он приехал купить у дедушки барана, и если б не начался сильный дождь, он бы купил барана и уехал. Но пошел дождь, и дедушка пригласил его в дом, предложив поужинать и переждать непогоду. Оказалось, что Джон Лич был знаком с двоюродным братом матери, жившим в Тонтоне, и однажды в Холсуорси встречался с моим отцом. И даже я, одиннадцатилетняя девочка, заметила, как моя мама оживилась от его знаков внимания.
Но девочка к Джону Личу не прониклась добрыми чувствами, ей не нравилось, что он задался целью очаровать ее маму; она оставалась замкнутой и угрюмой, когда он пытался с ней заигрывать, задавал смешные вопросы об ее щенке и рукоделии. Да и вообще какая разница, что девочка с ним не особо почтительна? Ведь этот краснорожий верзила приехал купить барана; сейчас погрузит его на телегу и был таков.
Но потом Джон Лич стал приезжать просто так, не за бараном.
Словом, вдовец Джон Лич, искавший женщину, которая вела бы хозяйство в его доме и согревала ему постель, положил глаз на вдову Грейс Вил. Никаких разговоров о моем участии в этом союзе я не помню. Не помню, слава богу, слащавых объяснений относительно того, почему меня в новую семью не зовут.
Мама сообщила мне, что она с мистером Личем уедет жить в его дом в Сток-Климсленде, а я останусь с дедушкой.
– Тебе лучше остаться здесь, детка, – воскликнула она. – Ты сама не понимаешь, как тебе повезло! Ты ведь сможешь продолжить учебу!
Я знала: это просто предлог, чтобы не брать меня с собой. Мы с мистером Личем относились друг к другу, как два ощетинившихся пса. Я, конечно, хотела, чтобы мама по-прежнему принадлежала мне. А мистер Лич не желал, чтобы в его жизни появилась девчонка, которая мнит о себе бог весть что, потому что она берет уроки у духовного лица. Избалованная ленивая девчонка, нахватавшаяся жеманства в доме приходского священника. Такой вряд ли понравится, если ей велят вставать на заре и идти доить коров.
Да, правда, я не хотела жить с мистером Личем. Ведь он считал бы каждую ложку, что я подносила бы ко рту, твердил бы маме, что мне пора оторвать нос от книги и заняться делом. Но внутри меня разверзлась глубокая пустота, когда я поняла, что мама сделала свой выбор, причем не в мою пользу. Кому охота возиться со строптивыми девчонками?
На свадьбе я с букетом в руках стояла рядом с дедушкой и другими гостями. Мы осыпали маму рисом. Одна горсть угодила ей в щеку – из моей руки, как оказалось. Мама вздрогнула и на мгновение посмотрела прямо мне в глаза, что вообще-то случалось очень редко. И тогда я поняла то, о чем догадывалась и раньше: мама не очень-то жалует меня. Наверно, думает, что любит, ведь мать не может не любить свое дитя. Но один неосторожный взгляд выдал всё: она меня не любила.
А на следующий день Джон и Грейс Лич укатили прочь в его двуколке. На одном колесе я заметила сломанную спицу. По сей день помню эту сломанную спицу, помню, что, улыбаясь и маша им вслед, я старалась думать только о ней. Потому как не хотела задумываться о том, что прощаюсь с матерью навсегда. Сток-Климсленд находился не так уж и далеко, не то что Бат или Плимут, но с того дня меня не покидало чувство, что она живет на другом конце Земли.
Скоро у мамы родилась еще одна дочь. Изабелла Лич. Изабелла стала последней деталью новой картины, которая теперь сложилась раз и навсегда.
Но у меня оставался дедушка; он любил меня. Когда я в первый раз остригала овцу, он с улыбкой наблюдал, как бедное животное становится похоже на двух разных овец одновременно: с одной стороны – обтянутый кожей скелет; с другой – густая копна волнистой шерсти.
Ужалась до малого размераКак-то так само собой вышло, что я переехала жить к Кингдонам. Решение было принято внезапно, заранее меня никто не предупреждал.
– Дедушка твой стар, – сообщил мистер Кингдон.
Вот и все объяснение. «Но дедушка всегда был старым», – хотела я возразить. Однако мистеру Кингдону возражать было не принято. Такое у него было благочестивое лицо, изрытое суровыми морщинами.
– Добро пожаловать, Элизабет, – сказала миссис Кингдон. – Мы рады, что ты стала членом нашей семьи.
В семье Кингдонов считалось зазорным расхаживать по грязи и навозу скотного двора в старом переднике и учиться брать барана за рога, так чтобы он не забодал. Одно дело – быть гостьей в этом доме, другое – жить в нем. Юной леди из семьи священника пачкать руки не положено; для выполнения грязной работы есть другие. Ее удел – не овцы и куры, а вышивание, французские и запошивочные швы.
Изменились и отношения между мной и Брайди. Теперь, живя в доме священника, я стала ей почти сестрой, и передо мной стояла задача не допустить, чтобы мы с ней раздружились. Иначе что ждало бы меня – непривлекательную девочку без денег и, можно сказать, без семьи? Куда податься девочке, которую, как мне казалось, все бросили – сначала отец, потом мать, а теперь вот и дедушка?
Я была вынуждена осторожничать, опасаясь совершить оплошность. А мое новое положение, в сущности, состояло из возможных оплошностей. Я старательно следила за своей речью, чтоб не высказать какое-нибудь смелое суждение, которое моих благодетелей заставило бы засомневаться: ой, пожалуй, она все-таки нам не подходит.
Осторожность вошла в привычку, с ней появилась и новая черта – нерешительность. Храбрая девочка, при виде которой дедушка улыбался, теперь ёжилась от грома, терялась, если требовалось принять даже самое пустяковое решение. Я не то чтобы перестала быть самой собой, но отличалась от себя прежней. Стала более услужливой, угодливой. Словно ужалась до малого размера и спряталась глубоко в себе, где меня настоящую никто не видел.
Так устроил господьВ ту пору, когда я поселилась у Кингдонов, мне уже исполнилось двенадцать лет, а Брайди была на несколько месяцев старше. Как-то раз миссис Кингдон отвела нас в сторонку и сообщила, что у нас скоро начнутся, как она выразилась, месячные. От смущения она говорила сердито, пытаясь подыскать более пристойную замену слову «кровь». Объяснила, как пользоваться прокладками.
Мы обе приутихли, а мы ведь были бойкие девчонки. С ума сойти! У нас между ног будет выделяться – кто бы мог подумать?! – кровь! И ее надо останавливать тряпочками, а затем незаметно относить их Мэри, только чтоб не видели Джон и Эймос, а она, постирав прокладки, уберет их в наш комод, чтобы мы могли воспользоваться ими в следующем месяце.
– Что, каждый месяц? – в ужасе воскликнула Брайди. – Прямо каждый-каждый?
– Да, душа моя, – ответила миссис Кингдон. – Если в какой-то месяц этого не будет, значит, ты беременна.
Она вздохнула.
– То, как Господь устроил свое Творенье, не всегда поддается разумению, – заметила миссис Кингдон. – Иметь детей – большая радость, а без этих дел детей не бывает.
Мы с Брайди ушли в сад. Шли, не глядя друг на друга. Наконец, она высказала то, о чем я и сама думала.
– Меня мутит от одной мысли об этом, – сказала она. – Со мной такого не случится.
Судя по голосу, Брайди действительно в это верила, что ее утешало. А я не верила, и из вредности захотела сорвать на ней злость, – чтоб не успокаивалась раньше времени.
– Значит, у тебя никогда не будет детей, – заявила я.
Мы обе знали миссис Деверо – жительницу нашей деревни. Она была замужем, но детей не имела. Над ней постоянно висел покров несчастья, и все говорили о ней с жалостью, словно она была слепой или незаконнорожденной.
– Ну да, не будет, – отозвалась Брайди. – И что в том плохого?
Она посмотрела на меня, и я прочла в ее глазах страх и отчаяние. Такие же чувства терзали и меня, ибо я была поставлена перед выбором, которого, в сущности, не было.
Потом, когда мы легли спать, я знала, что Брайди не может уснуть, думает, как и я, о том, что спокойное детство прошло, мы становимся женщинами, и нас швыряет в бескрайнее море взрослой жизни, в котором плыть придется без навигационных карт.
– Я никогда не выйду замуж, – произнесла Брайди в темноте. – Лизбет, ты спишь? Я никогда не выйду замуж.
И истерично рассмеялась. Этого ее исступленного смеха в гостиной никто никогда не слышал; только я понимала, что он означает. На людях, слыша легкомысленный хохот Брайди, я восхищалась её умением притворяться, ведь я-то знала, что она куда более глубокая натура. В то же время мне было страшно за нее – и за себя тоже: ведь не может человек всю жизнь изображать то, чего нет!
– Значит, станешь старой девой, – заключила я.
Мы надолго замолчали.
– Да, старой девой, – наконец произнесла она. – Незамужней. Монашкой. Ведьмой. Ведьмой из Бриджрула.
За окном что-то неясно проухала сова.
– Думаю, на самом деле ты смелее, чем я…
– Неужели больше никак нельзя? – перебила меня Брайди охрипшим от волнения голосом.
Сова снова заухала – грустно-грустно, и дерево постучало веткой в окно. Мне казалось, Брайди, как и я, думает: еще несколько лет, а потом каждая из нас станет либо женой, либо несчастной старой девой.
– Можно еще стать вдовой, – сказала я. – Это лучше, чем быть женой или старой девой. Главное – придумать, как это устроить. Безболезненно, конечно.
Она опять хохотнула, издав хриплый визгливый вскрик.
– Да, – согласилась Брайди, – и черный цвет очень идет женщине.
Я представила себе такую симпатичную гравюру в рамке: вдовы Бриджрула, вечно в черных одеяниях, вечно заняты повседневными делами, счастливо благоденствуют без своих почивших супругов. Но моя мама, к примеру, овдовев, не обрадовалась свободе. Обремененная вдовством, она как будто ужалась, скукожилась. Однажды призналась мне, что ненавидит вдовий траур, ненавидит, что замужние женщины смотрят на нее с жалостью, а то и с подозрением, крепче хватая мужей за руки.
– Мы могли бы открыть собственную школу, – промолвила Брайди. – Мисс Вил и мисс Кингдон. У них небольшая школа на холме. Ученицы любят их, и все вокруг только и говорят: «Как же мы раньше-то жили без этой школы на холме?». Это вполне осуществимо, Лизбет. У других же получается.
– Да, – согласилась я. – Осуществимо.
Но мы обе понимали, что не возможности обсуждаем, а просто пытаемся утешить друг друга.
Брайди уже как тридцать лет умерла, но я хорошо помню ее – мою самую преданную, искреннюю подругу, – такой у меня больше не было. Помню и то, что происходило в темном тепле нашей постели. Как мы ласкали друг друга. Как Брайди ласкала меня, я ласкала Брайди, все, что мы делали вместе. Мы никогда не говорили об этом. У нас не находилось слов, чтобы это описать. И мы совсем не стыдились. Это то, что случается между двумя человеческими существами само собой. Все это происходило по зову природы, дарило нам наслаждение столь же естественное и невинное, как еда, чтобы утолить голод, или вода, чтобы утолить жажду.
Куда ни посмотриТеперь, повзрослев, мы стали замечать сексуальность повсюду. Вот пес, его маленькая блестящая штучка то появляется, то исчезает, а при виде сучки в состоянии течки он просто сходит с ума, кажется, только смерть может помешать его совокуплению с ней. Вот баран трогает копытом и обнюхивает овцу. Она с виду никак не реагирует, а сестры ее, не поднимая голов, увлеченно щиплют травку, словно демонстрируя: ой, мы так заняты, нам не до этого. Баран бросается на овцу, сжимает ее ногами. Несколько мгновений – и все кончено, а овца все так же щиплет травку.
Из нас двоих смелее была Брайди. То, о чем я только думала, она произносила вслух.
– Честно говоря, Лизбет, – заявила она как-то присущим ей сухим тоном, – если это то, что нас ждет в супружестве, то гори оно синим пламенем.
В Бриджруле мы не встречали среди жителей ни Троила и Крессиды[4], ни Ромео и Джульетты. Но мы видели, что мужчины, если представлялась такая возможность, предавались любовным утехам с женщинами, практически с любыми. А женщины, если представлялась такая возможность, соглашались жить с любым мужчиной, неважно каким, при условии, что он мог предложить им будущее. Только в книгах мы читали про любовный восторг и вздохи. В книгах влюбленные вступали в брак на последней странице, а что было потом – покрыто тайной. Мы зачитывались книгами, но в них мы, девочки, не находили никаких намеков на то, что ждет нас в жизни.
Брайди могла позволить себе смелые высказывания, – по крайней мере, наедине со мной, – но лишь потому, что у нее были родители, которые о ней позаботятся, братья, которые ее защитят. Она могла рассчитывать на солидное приданое, которое выделит ей мистер Кингдон, когда придет время. Да, мы с ней смеялись вместе, но мой смех не был искренним. Красотой я не блистала. Не имела ни родственников, ни приданого. Да и солидных связей тоже. Моим единственным достоянием была девственность. И только она. Я начинала понимать, что должна продать свою непорочность с максимальной выгодой, ведь когда я ее лишусь, у меня больше ничего не останется.
Мы расцветали, превращаясь в юных девиц, и к нам стали захаживать молодые люди. Офицеры, расквартированные в казармах Холсуорси; учителя из школы, в которой учились братья Брайди; викарии. Когда мы входили в комнату, мужчины вскакивали на ноги. Когда шли к выходу, они подбегали, чтобы открыть перед нами дверь, как будто сами мы были не в состоянии повернуть ручку. Когда гуляли в полях, они перепрыгивали через низкий забор, чтобы, поддерживая нас под руки и за талии, помочь нам преодолеть перелаз. Но если бы не пышные платья и нижние юбки, в которые мы были облачены, если бы не шали, спадавшие с наших плеч, если бы не необходимость вести себя скромно, в силу чего мы были скованны в движениях, нам не требовалась бы никакая поддержка. Вся эта изысканная учтивость, вся эта банальная галантность лишь подчеркивали тот факт, что мы обладаем чем-то столь драгоценным, что нас нужно охранять.
Драгоценным – или опасным? Это было не совсем понятно.
Ни она, ни я никогда не оставались с кем-либо из этих мужчин наедине, с глазу на глаз. Общение с противоположным полом неизменно сводилось к пустой светской болтовне в присутствии других людей. В детстве мы с Брайди любили бродить в полях и по улочкам деревни, но теперь такие прогулки не приветствовались, разве что – словно бы по чистой случайности – кто-то из братьев Брайди прогуливался в том же самом направлении.
– Бриджет, ты теперь женщина, – укоризненным тоном принялась отчитывать нас миссис Кингдон после того, как однажды утром мы незаметно ускользнули из дома. – И ты, Элизабет, тоже. Скажу прямо: есть такие мужчины, которые всегда готовы обмануть девушку.
– Обмануть? – повторила Брайди. – Но как именно, мама?
Миссис Кингдон запнулась. Я видела, что ее колебания вызваны отнюдь не растерянностью: ее снедала тревога за нас, тут уж не до смущения. Дело было не в стеснении, а в поиске слов, вернее, в их отсутствии.
– Вы же видели, как ведут себя бараны, – наконец произнесла она. – Видели, что фермеры держат баранов отдельно от овец. К овцам пускают только отборного барана. Но баран не разборчив. Он готов спариться с любой овцой, если ему позволить.
Миссис Кингдон взяла Брайди за руку, а другой рукой обхватила мою.
– Вы, девочки, наше сокровище. Ваше будущее счастье зависит от того, сумеете ли вы уберечь себя от опасности. Вам понятно, девочки мои?
По правде сказать, не совсем.
– Выходит, мальчиков тоже отбраковывают, как ягнят, – однажды ночью промолвила Брайди. – Да нет, вряд ли. Иначе разве у меня было бы шесть братьев?
– Нет, мальчиков не отбраковывают, – ответила я. – Хотя в каком-то смысле это так. У кого больше денег, тот и выбирает себе женщину.
– И кого же он выберет? – задумалась она, и тут же сама ответила на свой вопрос: – Богатую и красивую. Мы с тобой не относимся ни к той, ни к другой категории.
Она издала странный звук. Смех или всхлип?
– Они осматривают нас, – продолжала Брайди. – С головы до ног. Особенно пялятся на наши… прелести.
– А мы? – отозвалась я. – Мы смотрим на их прелести?
Мужчины обычно стояли, облокотившись на каминную полку, так что самую интересную часть их тела в облегающих светлых брюках обрамляли полы сюртуков.
– Я смотрю на лицо мужчины, – ответила Брайди. – Пытаюсь увидеть… Сама не знаю что. Может, интерес к чему-то помимо моих прелестей? Может, интерес ко мне самой?
– Интерес к тебе самой! – повторила я.
Я почувствовала, как кровать затряслась от ее смеха, а потом – и от моего собственного. Мужчина, который был бы заинтересован в тебе самой! Забавно. Кровать тряслась так сильно, что ее дрожь, наверно, слышалась в комнате этажом ниже, где мистер и миссис Кингдон делили супружеское ложе. Это мысль быстро отрезвила нас.
Отец – не такой отстраненный, как мистер Кингдон, – возможно, смог бы объяснить более доходчиво. Отец, возможно, нашел бы простые и понятные слова. Он сказал бы: «Вам будут льстить. Будут вздыхать, превознося вашу красоту». А еще он сказал бы: «Не вздумайте поверить им, ни на секунду. Ни в коем случае не позволяйте им овладеть вами, именно в этом цель их льстивых речей. Смейтесь над ними», – посоветовал бы такой отец. – «По-доброму, конечно, но насмехайтесь».
Овсяница змеинаяС мистером Макартуром я познакомилась на крестинах новорожденной дочки супругов Кингдон. Я выступала в роли крестной их очаровательной малютки, которую назвали в честь меня. Идея эта принадлежала доброй миссис Кингдон, старавшейся обеспечить мне еще более надежную защиту своей семьи и укрепить мою веру в свои перспективы. Нам с Брайди было уже по двадцать два года. Миссис Кингдон понимала то, чего мы не еще сознавали: что бег времени ускоряется.
На крестины из гарнизона Холсуорси пришел капитан Мориарти, а с ним – его друг энсин Макартур. Капитан Мориарти, симпатичный улыбчивый мужчина, приходился Кингдонам дальним родственником. Было ясно, что он хотел познакомиться с Брайди. Как и я, красавицей она не была, но мистер Кингдон мог бы быть полезен ему в качестве тестя. Мне Мориарти показался самодовольным типом, наслаждающимся собственным великодушием: ну как же, он преподносит себя в подарок невзрачной мисс Кингдон.
Я отметила, что он поставил свой стул совсем близко от стула Брайди, а потом придвинулся к ней еще ближе под тем предлогом, что одна ножка угодила на край ковра. Наблюдая, как капитан Мориарти смотрит на Брайди – так другие фермеры оценивали овец моего дедушки, – я начинала понимать, что нам с ней недолго осталось жить под одной крышей.
Мистер Макартур пришел лишь для того, чтобы у его товарища была возможность пообщаться с Брайди наедине, и теперь мы все должны были этому способствовать. Миссис Кингдон разлила по чашкам чай и занялась тем, что она прекрасно умела: завела застольную беседу.
– Мисс Вил на досуге изучает травы на наших пастбищах, – начала она, улыбнувшись мне, но тут же с сомнением взглянула на мистера Кингдона. Испугалась, поняла я, что изучение пастбищных трав – не столь благородное для леди занятие, нежели другие науки, – может создать превратное представление о подруге Брайди, а значит, и о самой Брайди.
Я улыбнулась капитану Мориарти, затем мистеру Макартуру, но не потому, что они мне нравились, – просто хотела мягко успокоить миссис Кингдон.
– Да, – подтвердила я. – Но, разумеется, я изучаю только наши местные – девонские – травы, такие, как овсяница овечья и прочие.
Тут я подумала, что мои слова прозвучали как мягкий укор в адрес миссис Кингдон, словно она гордится мной за те достоинства, которые не заслуживают внимания. Я забеспокоилось, что беседа может застопориться. Но мои сомнения и колебания, а также сомнения и колебания миссис Кингдон тут же развеял капитан Мориарти. Выяснилось, что он знает о травах больше, чем любой из присутствовавших. Широко расставив ноги, он поднял вверх палец, будто выступая на собрании.
– Да, мисс Вил, это очень интересно, – подхватил он. – Festuca ovina, овсяница овечья. А знакома ли вам более редкая трава – овсянка змеиная?
Об овсянке змеиной я, разумеется, никогда и слыхом не слыхивала. Так и ответила. После чего капитан Мориарти стал щедро делиться с нами своими обширными познаниями в ботанике, а мистер Кингдон, миссис Кингдон, мистер Макартур, Брайди и я только сидели и кивали. К тому времени, когда капитан Мориарти перестал загибать пальцы, перечисляя названия растений, про неблагородное занятие мисс Вил уже никто и не вспоминал.