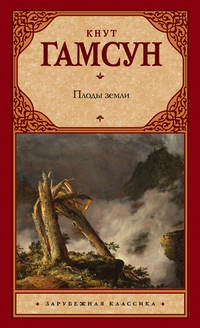
Плоды земли
Исаак трудился не покладая рук – корчевал пни, пахал землю, прорубил в лесу границы между своим участком и казной, дров опять набралось на целый год. Но так как при нем уже не было Ингер, ради которой стоило бы стараться, то он лез из кожи больше по привычке, чем ради удовольствия. Он пропустил уже два судебных заседания, так и не засвидетельствовав купчей, – не лежало у него к этому сердце, – и только нынче осенью наконец собрался это сделать. Не так уж все хорошо было у него. Терпеливый и упорный – все верно, но он был терпелив и упорен, потому что так уж привык жить. Он снимал козьи и телячьи шкуры, вымачивал их в реке, обкладывал корой, выделывал на изготовку обуви. Зимой уже с первой молотьбы он отбирал семена для будущей весны – пусть это будет сделано, куда как лучше, когда все сделано вовремя, он был человек порядка. Но жизнь его стала серой и одинокой, о-ох, Господи, как был, так и есть – бобыль бобылем.
Что за радость ему теперь сидеть по воскресеньям в нарядной красной рубахе, в горнице, когда не для кого стало наряжаться! Воскресенья тянулись дольше всех дней, они осуждали его на праздность и печальные мысли, ему ничего не оставалось, как только бродить по усадьбе, соображая, что еще осталось сделать. Всякий раз он брал с собой мальчуганов, неся одного из них на руках. Приятно было слушать их болтовню и отвечать на их вопросы.
Старуху Олину он держал при себе, потому что никого другого больше не было. Что и говорить, иметь в доме Олину было вовсе не так уж плохо, она чесала шерсть и пряла, вязала чулки и варежки и тоже варила козий сыр; но рука у нее была несчастливая и работала она без любви, потому что ничто из того, к чему она прикасалась, ей не принадлежало. Вот, например, купил как-то Исаак у торговца, еще при Ингер, очень хорошенькую коробочку, она стояла на полке, затейливая глиняная коробочка с собачьей головой на крышке, должно быть, табакерка; сняла как-то Олина крышку с коробочки и уронила на пол. Ингер отсадила в ящик несколько отводков фуксии, прикрыв их стеклом; Олина подняла стекло и положила опять на место, но как-то неловко и слишком плотно, – на следующий день все отводки погибли. Исааку, верно, неприятно было глядеть на все это, он, должно быть, и скривился, а так как с виду он и без того был не особенно кроткий, то, пожалуй, выражение лица у него стало не очень-то доброе. Но Олину так просто не возьмешь.
– Не нарочно ведь! – буркнула она.
– Знаю, – ответил Исаак, – но ты бы лучше не трогала.
– Больше я не прикоснусь к ее цветам, – сказала Олина. Но они уже все равно погибли.
И почему это лопари стали теперь захаживать в Селланро гораздо чаще, чем прежде? Ос-Андерс – какие такие у него тут дела, неужто он не может просто пройти мимо? За одно лето он дважды ходил через перевал, а ведь у Ос-Андерса не было оленей, за которыми надо присматривать, он кормился подаянием и жил из милости у других лопарей. Стоило ему появиться на хуторе, как Олина тотчас бросала работу и принималась сплетничать с ним о знакомых сельчанах, а когда он уходил, мешок у него бывал туго набит всякой всячиной. Исаак угрюмо молчал два года.
Но вот Олине опять понадобились новые ботинки, и тут уж он не стал молчать. Была осень, Олина же каждый день трепала ботинки, вместо того чтоб ходить в комагах или деревянных башмаках. Исаак сказал:
– Нынче хорошая погода. Гм! – Это для начала.
– Да, – ответила Олина.
– Послушай-ка, Элесеус, разве утром на полке было не десять сыров? – спросил Исаак.
– Да, десять, – ответил Элесеус.
– А сейчас только девять.
Элесеус снова пересчитал сыры, задумался ненадолго и вдруг вспомнил:
– Ну да, а еще тот, что унес Ос-Андерс, вот и будет десять.
В горнице воцарилось молчание. Маленький Сиверт тоже принялся считать и повторил за братом:
– Вот и будет десять.
Снова воцарилось молчание. Олине ничего не оставалось, как объясниться:
– И что из того, что я дала ему крошечный сырок? А детям еще рано соваться не в свои дела. Теперь-то понятно, в кого они уродились! И уж точно, что не в тебя, Исаак.
На этот намек никак нельзя было не ответить.
– Дети такие, как надо. А вот ты скажи мне, какие такие благодеяния оказал Ос-Андерс мне и моей семье?
– Благодеяния? – переспрашивает Олина.
– Да.
– Он-то, Ос-Андерс? – говорит она.
– Да. За что это я должен давать ему козьи сыры?
Но Олина уже пришла в себя и дает следующий ответ:
– Господь с тобой, Исаак! Да разве это я привадила Ос-Андерса? Помереть мне на этом месте, если я когда с ним заговаривала!
Блестяще. Исаак вынужден сдаться, как и много раз прежде.
Олина же и не думает сдаваться!
– А коли я должна ходить на зиму глядя босая и не иметь божеской обутки на ноги, то ты мне так и скажи. Я говорила тебе про ботинки и три и четыре недели назад, но их и в помине нет, а я как ходила босая, так и хожу.
– А что такое приключилось с твоими деревянными башмаками, что ты их не носишь? – спрашивает Исаак.
– Что с ними приключилось? – недоумевает Олина.
– Да, позволь спросить.
– С деревянными башмаками?
– Да.
– Ты вот не заговариваешь о том, что я чешу шерсть и пряду, и хожу за скотиной, и держу детей в чистоте, об этом ты не заговариваешь! А ведь и жена твоя, которая попала в тюрьму, даже та, кажись, не ходила босиком по снегу.
– Она ходила в деревянных башмаках, – ответил Исаак. – А когда шла в церковь или к приличным людям, надевала комаги, – сказал он.
– Да, да, – отозвалась Олина, – этак ведь куда роскошней!
– Вот-вот. А летом вкладывала в комаги сухую осоку. Ты же круглый год расхаживаешь в чулках и ботинках!
Олина сказала:
– Что до этого, так мои деревянные башмаки, наверное, скоро вконец износятся. Вот уж не думала, что стану стаптывать такие хорошие башмаки ради чужих дел. – Она говорила тихим елейным голосом, глаза у нее были полузакрыты, а вид ласковый и коварный. – Эта твоя Ингер, – продолжала она, – мы ее звали подкидышем, – она только и знала, что терлась около моих детей и научилась кой-чему за все те годы. И вот теперь нам за это благодарность. Моя дочь в Бергене ходит в шляпке, может, и Ингер тоже поехала на юг, в Тронхейм, чтоб купить себе шляпку, хе-хе.
Исаак встал, намереваясь уйти. Но Олина уже дала волю своему сердцу, всей своей годами копившейся черной злобе, вся она была словно воплощение тьмы и мрака; ни у одной из ее дочерей, заявила она, лицо не разорвано, словно у мечущего пламя хищного зверя, вот и вышли они честные и добропорядочные. Не все ведь так хватко умеют убивать детей!
– Поосторожнее! – крикнул Исаак и, чтоб прояснить свою мысль, прибавил: – Экая чертова баба!
Но Олина и не собиралась осторожничать, ха-ха-ха! Олина ухмыльнулась, закатила глаза к потолку, давая понять, какое это, в сущности, безобразие – ходить себе как ни в чем не бывало с заячьей губой средь других людей. Надо же иметь совесть!
Исаак был несказанно рад, когда ему удалось наконец вырваться из дома. И что же ему оставалось делать, как не купить Олине ботинки? Один в этой лесной глухомани, он не мог, как другие равные богам счастливцы, скрестить руки на груди и заявить служанке: «Уйди!» Столь ему необходимая, она была в полной безопасности, что бы ни сказала и что бы ни сделала.
Ночи стоят прохладные и лунные, болота застывают так, что при необходимости могут выдержать и человека, за день солнце опять растапливает их, и они снова становятся непроходимыми. В одну из таких холодных ночей Исаак отправляется в село заказать Олине ботинки. Он несет с собой два козьих сыра для мадам Гейслер.
На полдороге к селу уже поселился новый сосед. Должно быть, человек со средствами: дом ему строили плотники из села, и вдобавок он нанял работника вспахать полоску песчаной земли под картошку; сам он работал мало, а то и вовсе не работал. Это был Бреде Ольсен, подручный ленсмана и пристав, к которому обращались всякий раз, когда надо было послать за доктором или когда жена пастора собиралась заколоть свинью. Ему еще не исполнилось и тридцати, а кормить приходилось четверых детей, не считая жены, которая и сама-то была не лучше ребенка. Да, средств у Бреде было, верно, не очень много, не много наживешь, служа всем затычкой да разъезжая по округе и составляя описи за недоимки; и вот он решил заняться земледелием. Под дом свой на хуторе он взял ссуду в банке. Участок его назывался Брейдаблик, это жена ленсмана Хейердала придумала такое красивое название.
Исаак быстро проходит мимо, не завернув к соседу, но окно в доме облеплено детскими лицами, хотя еще совсем рано. Исаак торопится, ему хочется следующей ночью дойти до этого же места. Человеку в глуши много есть о чем подумать и ко многому приходится приспосабливаться. Сейчас у него на уме не столько работа, как он скучает по мальчуганам, оставшимся дома с Олиной.
Дорогой он вспоминает, как впервые появился в этих местах. Время идет своей чередой, последние два года тянулись долго; много чего было хорошего в Селланро, кое-чего было и плохого, о-ох, Господи! Вот, стало быть, и еще один хуторок появился в тутошней глуши, Исаак признал это место, одно из тех удобных мест, которые он сам отыскал тогда на своем пути, но в конце концов прошел мимо. Оно ближе к селу, это правда, но лес здесь не так хорош; местность ровная, но болотистая; землю легко поднять, но трудно копать. Вспаханное болото еще ведь не поле! И что это значит, неужто Бреде не думает устроить навес сбоку сеновала для инструмента и повозок? Исаак заметил, что телега стоит посреди двора, под открытым небом.
С сапожником он обо всем договорился, а мадам Гейслер, оказывается, уехала, поэтому сыры он продал торговцу. Вечером он отправляется домой. Мороз все крепчает, так что идти легко, но на душе у Исаака тяжело. Бог весть когда теперь придет Гейслер, раз и жена его уехала, может, вовсе никогда не вернется. Ингер нету, а время идет.
На обратном пути он тоже не заходит к Бреде, нет, он делает крюк и обходит Брейдаблик стороной. Ему не хочется ни с кем говорить, только бы идти. «А телега-то у Бреде все еще стоит на дворе, пожалуй, так и останется на зиму!» – думает он. Ну да, каждому свое! Вот у него самого, у Исаака, и телега есть, и навес для нее, а лучше ли ему от этого? Дом у него только наполовину дом, был когда-то целым, а теперь только половина осталась.
Когда среди дня он наконец издали видит свой дом на откосе, на душе у него светлеет, хотя он устал и измучен после двух суток пути: дом стоит как стоял, из трубы вьется дым, оба мальчика играют на дворе; едва завидев его, они бегут ему навстречу. Он входит в избу, в горнице сидят два лопаря, Олина в удивлении встает со скамейки.
– Что это? Ты уж вернулся? – говорит она. Она варит кофе на плите. Кофе? Кофе!
Исаак и раньше замечал: когда к ним приходил Ос-Андерс или другие лопари, Олина варила кофе в маленькой Ингеровой кастрюльке. Она варит его и тогда, когда Исаак работает в лесу или в поле, если же он неожиданно приходит домой и видит это, она молчит. Но он знает, что всякий раз у него становится одним козьим сыром или мотком шерсти меньше. И потому у него хватает мудрости не поднимать руку на Олину за ее низость. В общем, Исаак старается быть все добрее и добрее, ради чего бы он это ни делал – то ли ради мира в доме, то ли в надежде, что Бог за это скорее возвратит ему Ингер. Он склонен к раздумьям и предрассудкам, даже его крестьянское лукавство искренне и простодушно. Осенью оказалось, что дерновая крыша в конюшне начала протекать над лошадью; Исаак пожевал-пожевал свою железную бороду, а потом улыбнулся, словно сообразив, в чем штука, и заложил крышу тесинами. У него не вырвалось ни одного сердитого слова. Другой пример: кладовая, в которой он держал съестные припасы, стояла на высоких каменных подпорках по углам. Мелкие птицы залетали в нее сквозь большие отверстия в каменной кладке и метались, не находя выхода. Олина жаловалась, что воробьи клюют провизию, портят и пачкают сало. Исаак сказал:
– Плохо, что птицы залетают, а вылететь не могут! – И в разгар спешной работы наломал камней и заложил отверстия.
Бог знает, что он думал при этом, может, надеялся, что Ингер скорее вернется к нему, если он будет совершать добрые поступки.
IX
Годы идут.
Опять приехал в Селланро инженер с бригадиром и двумя рабочими, и опять они собирались вести через горы телеграфную линию. Судя по всему, теперь линия пройдет чуть выше усадьбы, в лесу предполагалось прорубить широкую просеку, ну что ж, это неплохо, здесь станет не так пустынно, мир ярким светом ворвался и сюда.
Инженер сказал:
– Тут будет центральный пункт между двух долин, тебе, может быть, предложат надзор за линией по обе стороны.
– Так, – сказал Исаак.
– Получать будешь двадцать пять далеров в год.
– Так, – сказал Исаак, – а что мне за это придется делать?
– Держать линию в порядке, чинить провода, если они порвутся, корчевать кусты, которые растут на линии. У тебя на стене будет висеть маленькая машинка, которая показывает, когда надо выходить на линию. И тогда бросай все свои занятия и иди.
Исаак призадумался.
– Я мог бы взять эту работу на зиму, – сказал он.
– На весь год, – возразил инженер, – разумеется, на весь год, и на зиму и на лето.
Исаак заявил:
– Весной, летом и осенью у меня полно работы на земле, ни на что другое времени нет.
Инженер добрую минуту смотрел на него, а после задал удивительный вопрос:
– Да разве ты на этом больше выгадаешь?
– Выгадаю? – переспросил Исаак.
– Разве ты больше заработаешь на земле за те дни, когда будешь обходить линию?
– Вот уж этого я не знаю, – ответил Исаак. – Только ведь живу-то я здесь ради земли. У меня большая семья, много скотины, всех надо прокормить. Мы живем землей.
– Ну что ж, – сказал инженер, – я могу предложить это место кому-нибудь другому.
Угроза эта, видимо, принесла Исааку большое облегчение, ему вовсе не хотелось обижать важного барина, и он поспешил объяснить:
– У меня ведь лошадь и пять коров, да еще бык. Два десятка овец и шестнадцать коз. Скотина дает нам пищу, и шерсть, и кожи, надо же ее кормить.
– Ясно, – коротко кивнул инженер.
– Да-да. Вот я и не знаю, как добуду ей корм, если в самую страду придется за телеграфом смотреть.
Инженер сказал:
– Не будем больше говорить об этом. Поручим надзор вашему соседу, Бреде Ольсену, он, наверное, с радостью согласится. – Инженер повернулся к своим спутникам: – Идемте дальше, ребята!
Олина по тону разговора верно поняла, что Исаак заупрямился, сделал глупость, и обрадовалась.
– Что это ты сказал, Исаак: шестнадцать коз? А ведь их сейчас только пятнадцать.
Исаак посмотрел на нее. И Олина тоже посмотрела прямо ему в глаза.
– Разве коз не шестнадцать? – спросил он.
– Нет, – ответила она и беспомощно взглянула на присутствующих, как бы подчеркивая его бестолковость.
– Так, – тихонько протянул Исаак. Он закусил зубами бороду и стал грызть ее.
Инженер и его спутники ушли.
Вздумай Исаак выразить Олине свое неудовольствие или, чего доброго, искалечить ее, то ему представлялся удобный случай, о, замечательный случай, они были в горнице одни, мальчики побежали провожать приезжих. Исаак стоял посреди комнаты, Олина сидела возле печки. Исаак дважды откашлялся, показывая, что собирается заговорить. Но он молчал, проявив этим свою душевную силу. Неужто он не знает собственных коз как свои пять пальцев? С ума сошла эта баба, что ли! И как это может пропасть из хлева хоть одна животина, когда он самолично ухаживает за ними и ежедневно со всеми разговаривает, со всеми шестнадцатью козами наперечет! Значит, Олина наверняка стащила одну козу, когда вчера сюда приходила женщина из Брейдаблика.
– Гм! – сказал Исаак, едва удерживаясь от искушения сказать что-нибудь еще. Что же сделала Олина? Может, и не прямое убийство, но не очень далеко от того. Для Исаака пропажа шестнадцатой козы была вопросом страшной серьезности.
Но не мог же он век стоять посреди горницы и молчать. Вот он и сказал:
– Гм. Так сейчас всего пятнадцать коз?
– Да, – кротко ответила Олина. – Посчитай сам, у меня больше пятнадцати не набирается.
Вот теперь, в эту самую минуту, он смог бы это сделать: протянуть руку и значительно изменить фигуру Олины одним хорошим тычком. Мог. Но не стал, а вместо этого храбро произнес, идя к двери:
– Сейчас я больше ничего не скажу! – И с этими словами вышел из комнаты с таким видом, как будто в следующий раз за этим дело не станет.
– Элесеус! – крикнул он.
Где Элесеус, куда подевались оба парнишки? Отец хотел обратиться к ним с вопросом, они уже большие мальчики, могли видеть, что делается в доме. Он обнаружил их под овином, они забились в самую глубину, снаружи их не видать, и выдали себя лишь боязливым шепотом. И вот они выползли на свет, словно два преступника.
Оказалось, что Элесеус нашел огрызок цветного карандаша, забытый инженером, а когда побежал отдать его, взрослые, широко шагавшие мужчины, были уже далеко в лесу; Элесеус остановился. У него явилась мысль, что, пожалуй, недурно бы оставить карандаш себе. Он кликнул маленького Сиверта, чтоб вместе решить это дело, и оба заползли со своей добычей под овин. Ну что за карандашик! – замечательное событие в их жизни, просто чудо! Они набрали щепок и исписали их значками, а карандаш писал с одного конца красным, с другого – синим; ребятишки писали поочередно. Когда отец стал настойчиво и громко звать их, Элесеус прошептал:
– Небось вернулись за карандашом! – Радость сразу померкла, ее точно вымело из души, их маленькие сердечки сильно забились, застучали. Братья выползли наружу. Элесеус протянул отцу руку с карандашом: вот он, они его не сломали, но лучше бы он никогда не попадался им на глаза!
Никакого инженера во дворе не оказалось. Сердца их опять успокоились, после пережитого волнения они вновь ощутили райское блаженство.
– Здесь вчера была женщина, – сказал отец.
– Да, а что?
– Соседка снизу. Вы видали, как она уходила?
– Да-а!
– Была с ней коза?
– Нет, – сказали мальчики. – Коза?
– С ней была коза, когда она уходила домой?
– Нет. Какая коза?
Исаак погрузился в размышления.
Вечером, когда скотина вернулась с пастбища, он пересчитал коз, их оказалось шестнадцать. Он пересчитал их снова, он пересчитывал их пять раз – коз было шестнадцать. Ни одна не пропала.
Исаак вздохнул с облегчением. Как же это понимать? Олина, тварь этакая, должно быть, не умеет считать до шестнадцати.
Он с досадой сказал ей:
– Что ты болтаешь и путаешь, ведь коз-то шестнадцать!
– Разве шестнадцать? – невинно спросила она.
– Да.
– Ну-у. Так, так.
– Нечего сказать, хорошо ты считаешь!
Олина ответила тихо и обиженно:
– Раз все козы налицо, значит, слава Богу, Олина ни одной не съела. Я рада за нее!
Она удивила его этой загадкой и успокоила. Больше он скотину не пересчитывал, ему даже в голову не пришло пересчитать овец. Выходит, Олина вовсе не так уж плоха; как-никак она ведет его дом и хозяйство, ходит за его скотиной, она просто очень глупа и вредит только самой себе, а не ему. Бог с ней, пусть живет, что с нее взять. Но серой и безрадостной казалась жизнь Исааку.
Прошли годы. На крыше избы выросла трава, даже крыша овина, которая была на несколько лет моложе, стояла зеленая.
Лесные мыши давно уже пробрались в кладовую. На хуторе развелось много синиц и других мелких пташек, на бугре жили тетерки, налетели даже грачи и вороны. А самое удивительное случилось прошлым летом: вдруг прилетели чайки с побережья, прилетели за много миль с моря и опустились на землю, на этом участке в глуши! Вот какую известность приобрел на белом свете хуторок! А как по-вашему, какие мысли зашевелились у Элесеуса и маленького Сиверта, когда они увидели чаек? Птицы были незнакомые, из далеких-далеких краев, их было немного, но все-таки шесть штук, беленькие, одна в одну, они расхаживали пешочком по земле, изредка пощипывая травку.
– Отец, зачем они сюда прилетели? – спросили ребятишки.
– Оттого, что почуяли на море грозу, – отвечал отец.
Вот ведь какие они загадочные и непонятные, эти чайки!
А сколько других полезных и хороших знаний преподал Исаак своим детям. Они уже настолько выросли, что пора было отдать их в школу, но школа находилась за много миль в селе, и до нее было не добраться. Исаак сам учил мальчиков азбуке по воскресеньям, за большим он и не гнался, нет, этот прирожденный землепашец за наукой не гнался, поэтому катехизис и священная история спокойненько лежали на полке, рядом с козьими сырами. Исаак, должно быть, полагал, что книжная неученость составляет до известной степени силу человека, и потому предоставлял детям расти свободно. Оба они были его радостью и благословением; Исаак часто вспоминал, какие они были крошечные и как мать не позволяла ему брать их на руки, потому что руки у него в смоле. Ха, смола, что может быть чище ее? Деготь, козье молоко или, скажем, костный мозг тоже здоровые и превосходные вещи, но смола, сосновая смола, – тут и толковать не о чем!
И вот дети блаженствовали, живя в грязи и невежестве, но в редкие дни, когда им случалось помыться, они были прехорошенькие, а маленький Сиверт был еще и крепыш. Элесеус, тот вышел потоньше и посерьезнее.
– А откуда чайкам знать, что собирается гроза? – спросил он.
– Они чуют погоду, – отвечал отец. – Но уж если на то пошло, никто так не чует погоду, как муха, – сказал он. – Бог ее знает, что с ней делается в непогоду, ревматизм, что ли, разыгрывается, или головокружение начинается, или еще что. И муху никогда не надо отгонять, а то она еще хуже пристанет, – сказал он. – Запомните, ребятки. Овод – тот другого нрава, он сам помирает. Овод, он так: появится ни с того ни с сего в какой-нибудь день летом, потом так же ни с того ни с сего и пропадет.
– Куда же он девается? – спросил Элесеус.
– Куда девается? Сало в нем свернется, он упадет и не может подняться!
Каждый день приносил им новые познания: прыгая с высоких камней, язык надо отводить подальше в рот, а не держать между зубами. Когда они вырастут и захотят, чтоб в церкви от них хорошо пахло, пусть потрутся листком пижмы, что растет на бугре. Отец был полон премудрости. Он рассказывал детям про камни и про кремень, про то, что белый камень тверже серого; когда же он нашел кремень, пришлось разыскать губу – нарост на дереве, – сварить ее в щелоке и сделать трут. А уж потом он высек детям из кремня огонь. Он учил их и про луну: когда ее можно взять левой рукой, она, стало быть, на прибыли, а когда можно взять правой рукой – на ущербе, – запомните, ребятки! Изредка случалось, что Исаак заносился чересчур высоко и говорил мудреные, непонятные слова: так однажды он принялся разглагольствовать насчет того, что верблюду труднее попасть на небо, чем человеку пролезть в игольное ушко. В другой раз, поучая их о славе ангелов, он сказал, что каблуки у них подбиты звездами вместо сапожных гвоздей. Школьный учитель в селе, наверное, посмеялся бы над незлобивой и простодушной наукой, удовлетворявшей хуторян, но фантазии детей Исаака она давала крепкую и здоровую пищу. Они воспитывались и образовывались для своего собственного тесного мира – что же могло быть лучше? Осенью, когда кололи скотину, мальчики преисполнялись любопытства, страха и печали за животных, которых ожидала смерть. Исаак держал животину одной рукой, а другой – закалывал, Олина же спускала кровь. Вот из хлева вывели старого козла, такого умного и бородатого, ребятишки стояли в уголке и смотрели.
– Чертовски холодный нынче ветер, – сказал Элесеус, высморкался пальцами и вытер глаза.
Маленький Сиверт не стал скрывать слез и, не в силах сдержаться, закричал:
– Ой, бедненький старенький козлик!
Когда козла закололи, Исаак подошел к детям и преподал им следующее наставление:
– Никогда не надо жалеть вслух убойную скотину. Она от этого только труднее помирает. Запомните!
Так шли годы, и вот снова наступила весна.
Ингер опять прислала письмо, что живется ей хорошо и она многому научилась в тюрьме. Девчоночка уже большая, и зовут ее Леопольдина, по тому дню, в какой она родилась, пятнадцатого ноября. Она все умеет делать, особенно же мастерица на вязанье и шитье, замечательно это у нее выходит, и по материи и по канве.
Удивительнее всего в этом последнем письме было то, что Ингер написала его сама. Исаак на эти дела был не мастер, ему пришлось сходить в село к торговцу, чтобы тот прочитал ему письмо; но уж после этого письмо накрепко засело у него в голове, и, придя домой, он знал его наизусть.
И вот он с величайшей торжественностью сел за стол, разложил перед собой письмо и стал читать его детям. Пусть Олина увидит, что он умеет читать по писаному, впрочем, к ней он не обратился ни с одним словом. Кончив читать, он сказал:

