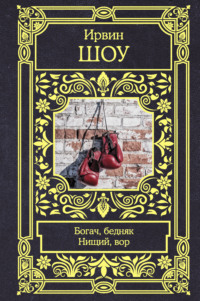
Богач, бедняк. Нищий, вор

Ирвин Шоу
Богач, бедняк. Нищий, вор
Irwin Shaw
Rich Man, Poor Man. Beggarman, Thief
© Irwin Shaw, 1969, 1977
© Перевод. И. Басавина, 2022
© Перевод. И. Якушкина, наследники, 2020
© Перевод. Н. Емельянникова, наследники, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
* * *Богач, бедняк
Моему сыну
Часть первая
Глава 1
I1945 год
Мистер Доннелли, тренер школьной легкоатлетической команды, отпустил ребят раньше обычного, так как на площадку пришел отец Генри Фуллера и сообщил, что получил телеграмму из Вашингтона: брат Генри погиб на войне в Германии. Генри лучше всех в команде толкал ядро, и поэтому, выждав, пока Генри переоделся и ушел с отцом домой, мистер Доннелли свистком собрал ребят и объявил, что они могут расходиться в знак уважения к брату Генри.
А бейсбольная команда тренировалась на своем поле, но ни у кого из игроков в тот день не погиб брат, поэтому они продолжали игру.
Рудольф Джордах (лучший результат в беге с барьерами на двести двадцать ярдов) прошел в душевую. Бегал он сегодня мало и даже не успел вспотеть, но дома у Джордахов вечно не хватало горячей воды, и он никогда не упускал возможности помыться в душе при гимнастическом зале. Школа была построена в 1927 году, когда у всех водились деньги, поэтому душевые были просторные и горячей воды в избытке. Там имелся даже бассейн. Обычно Рудольф после тренировки еще и плавал, но сегодня он не стал этого делать из уважения к погибшему брату товарища.
Ребята в раздевалке говорили вполголоса и не валяли дурака, как обычно. Смайли, капитан команды, встал на скамейку и заявил, что, если будет панихида, им всем следует скинуться на венок. Пятьдесят центов с носа вполне хватит, сказал он. По лицам парней сразу можно было понять, кто может выложить пятьдесят центов, а кто – нет. Рудольф не мог, но сделал вид, что может. Предложение Смайли с энтузиазмом поддержали те ребята, которых каждую осень родители возили в Нью-Йорк и там закупали им одежду на целый учебный год. Рудольф носил то, что продавалось здесь же, в Порт-Филипе, в универмаге Бернстайна.
Тем не менее одет он был всегда аккуратно и со вкусом: рубашка с галстуком, кожаная куртка, свитер, коричневые брюки, оставшиеся от костюма (пиджак протерся на локтях, и Рудольф его больше не носил). А Генри Фуллер был из тех ребят, которым одежду покупали в Нью-Йорке, но Рудольф был уверен, что сегодня это не доставляло Генри никакого удовольствия.
Не задерживаясь, Рудольф быстро вышел из раздевалки. Ему не хотелось возвращаться домой ни с кем из ребят, потому что пришлось бы говорить о брате Генри Фуллера. Рудольф не особенно дружил с Генри: тот был туповат, как, наверное, и положено быть толкателю ядра, и Рудольф не склонен был притворяться, выражая чрезмерное сочувствие.
Школа находилась в районе особняков, расположенном к северо-востоку от делового центра; ее окружали ряды домов, соединенных общей стеной, – дома эти были построены в то же время, что и школа, в период, когда рос город. Первоначально они были все одинаковые, но с годами владельцы – для разнообразия – выкрасили двери и рамы каждый в свой цвет, а кое-кто пристроил себе эркер или балкон.
Держа учебники под мышкой, Рудольф шагал по выщербленному тротуару. Стояла ранняя весна. День был ветреный, но не очень холодный, и у Рудольфа было отличное, чуть ли не праздничное настроение: тренировка была короткая, и он не устал. На многих деревьях уже распустились первые листочки, а еще голые ветви пестрели набухшими почками.
Школа была построена на холме. Сверху Рудольф видел еще по-зимнему студеный Гудзон и шпили городских церквей, а чуть подальше, в южной части города, высилась труба завода «Кирпич и черепица Бойлена», где работала сестра Рудольфа, Гретхен. Вдоль реки тянулись рельсы железной дороги Нью-Йорк-Сентрал. Порт-Филип имел весьма непривлекательный вид, хотя когда-то был красивым городком, где большие белые дома в колониальном стиле соседствовали с массивными викторианскими каменными особняками. Однако промышленный бум двадцатых годов вызвал огромный приток рабочего люда в Порт-Филип, и город заполонили узкие темные дома барачного типа. А затем разразившийся экономический кризис оставил без работы почти всех, построенные на скорую руку бараки опустели, и Порт-Филип, как ворчала мать Рудольфа, превратился в сплошные трущобы. Это было не совсем так. В северной части города сохранилось много прекрасных больших домов и широких улиц. И даже в захудалых районах еще были дома, из которых люди отказывались выезжать, – они по-прежнему прилично выглядели, затененные старыми деревьями, с широкими лужайками перед фасадом.
С войной в Порт-Филип вновь пришло процветание. Кирпичный и цементный заводы работали теперь на полную мощность, и даже закрытые до этого кожевенная и обувная фабрики начали выполнять армейские заказы. Но шла война, и люди не обращали внимания на внешний вид города – у них хватало других забот, – и, пожалуй, никогда Порт-Филип не выглядел таким запущенным, как сейчас.
«Найдется ли хоть один человек, готовый отдать жизнь ради того, чтобы защитить или, наоборот, захватить этот город, как отдал свою жизнь брат Генри Фуллера за безвестный городок в Германии?» – думал Рудольф, глядя сверху на залитое холодным солнцем беспорядочное скопление домов и улиц.
Втайне, хотя и без особой надежды, Рудольф рассчитывал, что война продлится еще года два: через год ему исполнится семнадцать, и тогда он сможет записаться в добровольцы. Он представлял себя лейтенантом с серебряными нашивками, приветствующим рядовых и под пулеметным огнем противника ведущим взвод в атаку. Через такое всякому мужчине надо пройти. Жаль, упразднили кавалерию. Как здорово мчаться на коне и на всем скаку разить саблей презренного врага.
Конечно, дома он не осмеливался и заикнуться ни о чем подобном: стоило кому-нибудь в присутствии матери просто предположить, что война затянется и Рудольфа в конце концов заберут в армию, у нее тут же начиналась истерика. Рудольф знал, что были мальчики, набавлявшие себе возраст, чтобы попасть в армию, – ходили рассказы про пятнадцатилетних, четырнадцатилетних ребят, получивших медали за службу на флоте, но Рудольф не мог пойти на такое из-за матери.
Он, как всегда, сделал крюк, чтобы пройти мимо дома мисс Лено. Она преподавала у них в школе французский. Поглядел на ее окно и пошел дальше.
Он шагал по Бродвею, главной улице Порт-Филипа, что тянулась вдоль реки и переходила в автостраду Нью-Йорк—Олбани. Он мечтал завести собственную машину вроде тех, что сейчас проносились по шоссе через город. Как только у него появится машина, он станет каждую неделю ездить на выходные в Нью-Йорк. Пока он еще не очень-то представлял себе, какие у него могут быть дела в Нью-Йорке, но знал, что ездить туда будет.
Бродвей в Порт-Филипе – широкая, ничем не примечательная улица, по обе стороны которой рядом с довольно большими магазинами готового женского платья, дешевых ювелирных изделий и спортивных товаров уживались маленькие мясные лавки и продовольственные магазинчики. Рудольф, как всегда, остановился перед витриной армейского магазина, где были выставлены рабочие ботинки, брюки и рубашки из грубой хлопчатобумажной ткани, карманные фонарики, складные ножи, рыболовные принадлежности, и долго глазел на тонкие, изящные спиннинги с дорогими катушками. Он рыбачил на реке, а когда открывался сезон ловли форели, ходил и на ручьи, но его рыбацкое снаряжение было весьма скромным.
Пройдя короткий переулок, он свернул на Вандерхоф-стрит, где он жил. Улица тянулась параллельно Бродвею и словно пыталась соперничать с ним – с таким же успехом бедняк в поношенном костюме и стоптанных башмаках мог делать вид, будто приехал на «кадиллаке». Магазины здесь были маленькие, товары на витринах – серые от пыли, точно владельцы сами понимали: протирай их не протирай, все равно никому они не нужны. Многие витрины еще с начала тридцатых годов были заколочены досками. Накануне войны на Вандерхоф-стрит меняли канализацию, и, прокладывая траншеи, строители вырубили тенистые деревья, росшие вдоль тротуара, а посадить вместо них новые никто так и не удосужился. Улица была длинной, и чем ближе подходил Рудольф к своему дому, тем более и более убогой становилась она, словно продвижение на юг означало и приближение к упадку.
Мать стояла за прилавком булочной, как всегда зябко кутаясь в шаль. Их лавка находилась на углу, поэтому в ней было две витрины, и мать постоянно жаловалась на сквозняки. Сейчас она укладывала дюжину пирожков в бумажный пакет для маленькой девочки. В витрине, выходившей на Вандерхоф-стрит, лежали пирожные и торты. Раньше отец сам выпекал их в подвале под булочной, но с началом войны рассудил, что от этого больше хлопот, чем прибыли, и теперь каждое утро их доставляли сюда на грузовике с хлебопекарного завода, а Аксель Джордах ограничивался выпечкой хлеба и булочек. Пироги, пролежавшие на витрине три дня, Аксель забирал домой, и их съедала семья.
Войдя, Рудольф поцеловал мать, а она ласково потрепала его по щеке. Мать всегда выглядела усталой и постоянно щурилась, так как беспрерывно курила и дым попадал ей в глаза.
– Почему ты сегодня так рано? – спросила она.
– Отменили тренировку, – ответил он, но не объяснил почему. – Ты иди домой, я поработаю за тебя.
– Спасибо, Руди, – сказала мать. – Хороший ты мой. – И поцеловала его. С ним она была очень ласкова. Ему хотелось, чтобы хоть изредка мать целовала его брата или сестру, но она никогда этого не делала. И он ни разу не видел, чтобы она целовала отца. – Я пойду приготовлю ужин.
За продуктами ходил отец Рудольфа, считая жену расточительной, к тому же она не могла отличить хорошие продукты от плохих, но готовила все-таки она.
Жили они в этом же доме, прямо над булочной, двумя этажами выше. Мать, склонив седеющую голову и шаркая ногами, как старуха, прошла мимо витрины: лестница, ведущая в их жилье наверху, находилась на улице. Рудольфу порой не верилось, что матери едва перевалило за сорок. Она стала совсем седая и еле таскала ноги.
Рудольф достал книжку и начал читать: еще целый час покупателей будет мало. А это было задание английского преподавателя: речь Бэрка «О примирении с колониями». Его доводы выглядели столь убедительно, что оставалось лишь удивляться, почему парламент не поддержал его, – ведь там сидели вроде бы умные люди. Какой же была бы сейчас Америка, если бы они послушали тогда Бэрка? Оставались бы и по эту пору графы, герцоги и замки? Он бы не возражал. Сэр Рудольф Джордах, полковник гвардии Порт-Филипа.
Зашел рабочий-итальянец и попросил белого хлеба. Рудольф отложил в сторону назидания Бэрка и обслужил его.
Джордахи ели на кухне. Семья собиралась вместе только за ужином: у Акселя из-за работы в пекарне был другой распорядок дня. Сегодня мать приготовила тушеную баранину. Несмотря на карточную систему, у них всегда было вдоволь мяса: отец дружил с мясником, тоже немцем, и тот не спрашивал с него карточек. Рудольфу было как-то неловко есть баранину с черного рынка в день, когда Генри Фуллер получил извещение о гибели брата, но говорить с отцом о таких тонкостях не имело смысла, и Рудольф просто попросил положить ему поменьше мяса и побольше картошки с морковью.
Брат Рудольфа, Томас, единственный блондин в семье – мать уже давно не назовешь блондинкой, – уплетал баранину с завидным аппетитом: судя по всему, на душе у него было вполне спокойно. На год младше Рудольфа, он был таким же рослым, но гораздо шире в плечах. Старшая сестра Рудольфа, Гретхен, как всегда, ела мало – следила за фигурой. Мать вообще едва притрагивалась к еде. Отец же, крупный мужчина, сидевший за столом без пиджака, ел непомерно много, то и дело вытирая тыльной стороной ладони густые черные усы.
Гретхен поднялась из-за стола, не дожидаясь десерта – вишневого пирога трехдневной давности: она спешила в военный госпиталь на окраине города. Пять раз в неделю она добровольно дежурила там вечерами.
– Смотри не позволяй солдатам тебя лапать. У нас мало комнат, и детскую устроить будет негде, – напутствовал ее отец своей незатейливой всегдашней грубой шуткой.
– Па! – укоризненно сказала Гретхен.
– Уж я-то знаю солдат, – не унимался Аксель. – Так что гляди в оба.
«Гретхен такая аккуратная, красивая, порядочная», – подумал Рудольф. Ему было неприятно, что отец подозревает ее в чем-то таком. Уж если на то пошло, она единственная в их семье, которая хоть что-то делает для победы.
После ужина Томас ушел. Каждый вечер где-то пропадал. Он никогда не готовил уроков и в школе получал только плохие отметки, оставаясь в младшем классе, хотя ему уже скоро шестнадцать. Но говорить с ним было бесполезно.
Аксель Джордах прошел в гостиную почитать газету перед тем, как отправиться на ночь в подвал печь хлеб. Рудольф остался помочь матери: она мыла посуду, а он вытирал. «Если я когда-нибудь женюсь, – подумал он, – моей жене не придется мыть посуду».
Позже мать собралась гладить белье, а Рудольф поднялся в их с Томасом комнату и сел за уроки. Он твердо знал одно: только учеба может избавить его от необходимости есть на кухне, выслушивать грубости отца и вытирать посуду, поэтому он готовился к любым экзаменам лучше всех в классе.
II«Может, стоит положить отраву в одну из булочек? – думал Аксель Джордах, вымешивая тесто. – Просто так, ради смеха. Проучить их. Один разок, сегодня. И посмотреть, кому достанется».
Он отхлебнул дешевого виски прямо из горлышка. К утру бутылка будет почти пустой. Руки его по локти были в муке, лицо тоже запорошила мука, поскольку он поминутно вытирал ладонью потный лоб. «Клоун, да и только, – подумал он, – вот только цирка нет».
Из окна, открытого навстречу мартовской ночи, в подвал лился влажный свежий запах реки – запах Рейна, но воздух был раскален от жара печи. «Я уже в аду, – подумалось ему. – Поддерживаю адский огонь, чтобы заработать себе на хлеб и чтобы испечь свой хлеб. Пеку булочки в геенне огненной».
Он подошел к окну и набрал в легкие воздуха. На широкой груди под мокрой от пота майкой напряглись сильные, разработанные с годами мышцы. Река, находившаяся в двух-трех сотнях ярдов от дома, освободилась ото льда, воды ее несли напоминание о Севере, словно шуршание марширующих солдат, распространяя по берегам звуки последних атак зимних холодов. А до Рейна было четыре тысячи миль. Танки и пушки пересекали реку по наведенным мостам. Какой-то лейтенант успел перебежать по мосту, прежде чем он взорвался. Другого лейтенанта на другой стороне судили и расстреляли за то, что он вовремя не взорвал мост. Армии. Die Wacht am Rhein[1]. Черчилль недавно помочился в легендарную реку, родную реку Акселя Джордаха. Кельнский собор стоит как прежде, а больше почти ничего не осталось. Аксель видел фотографии в газетах. Кельн – родной дом, отчизна… Руины, перепаханные бульдозерами, зловоние мертвецов, погребенных под обвалившимися стенами. Почему это случилось именно с таким прекрасным городом?! Джордаху смутно вспомнилась молодость, потом он плюнул в окно, в ту сторону, где текла эта, другая, река. Где же она, непобедимая германская армия? Сколько народу погибло! Он снова плюнул, облизнув кончики поникших усов. Боже, храни Америку! Чтобы попасть сюда, ему пришлось убить человека. Еще раз глубоко вдохнув речной воздух, Аксель, прихрамывая, отошел от окна.
Его имя значилось на витрине магазина над подвалом: «БУЛОЧНАЯ. А. ДЖОРДАХ».
Кошка, пригревшаяся у печки, смотрела на него. У нее не было имени – об этом никто не позаботился. Ее держали в пекарне, чтобы она ловила мышей и крыс. Когда Акселю нужно было позвать ее, он просто говорил: «Кошка!» И кошка, наверное, думала, что ее так и зовут – Кошка. Ночь за ночью она непрестанно следила за ним. Каждый день кошка получала миску молока, а остальное пропитание должна была добывать сама. Кошка смотрела на Акселя так, что он был уверен: она мечтает стать громадной, как тигр, чтобы однажды броситься на него и хоть раз наесться досыта.
Он открыл нагревшуюся до нужной температуры духовку и, морщась от ударившего в лицо жара, поставил первый за эту ночь противень с булочками.
IIIНаверху в узкой комнате Рудольф, разделавшись с уроками, листал англо-французский словарь. Он писал по-французски любовное письмо мисс Лено. Рудольф читал «Волшебную гору»[2], и книга эта по большей части показалась ему скучной, за исключением главы о сексе – он подумал, что недаром любовные сцены написаны по-французски, и с большим трудом перевел их для себя. Любовь на французском языке выглядела так благородно. В одном он не сомневался: в долине Гудзона не было другого шестнадцатилетнего юноши, который этим вечером писал бы по-французски любовное письмо.
Закончив, он перечитал его, потом – первоначальный английский вариант: «…И наконец, должен сказать Вам, дражайшая мадам, что, когда я случайно встречаюсь с Вами в школьном коридоре или вижу, как Вы в одиночестве гуляете по городу в своем голубом пальто, у меня возникает страстное желание отправиться в ту далекую страну, из которой Вы к нам прибыли, а перед моими глазами встает пленительное видение: мы с Вами гуляем под руку по бульварам Парижа, только что освобожденного отважными солдатами Вашего и моего отечества. Ваш покорный слуга Рудольф Джордах».
Он опять с удовлетворением прочел французский перевод. Что и говорить: хочешь выражаться элегантно – пиши по-французски. Ему нравилось, как мисс Лено произносит его фамилию – она звучит так мягко и музыкально, не то что в устах некоторых людей, коверкающих ее.
Затем он не без сожаления порвал оба листка в мелкие клочки. Он знал, что, конечно же, не пошлет мисс Лено никакого письма. До сегодняшнего вечера он уже шесть раз писал ей, но потом рвал письма, потому что она наверняка сочла бы его сумасшедшим и, чего доброго, нажаловалась бы директору школы. Ну и, кроме того, он, естественно, не хотел, чтобы отец, или мать, или Гретхен, или Том нашли в его комнате любовные письма – не важно, на каком языке.
Но все равно чувство удовлетворения оставалось при нем. Сидя в этой убогой комнатушке над булочной, рядом с Гудзоном, он писал письма и как бы давал себе слово в один прекрасный день отправиться в далекое путешествие – он уплывет по реке и будет писать прелестным женщинам на незнакомых пока языках и отправлять им письма.
Рудольф встал из-за стола и взглянул на себя в маленькое кривое зеркало, висевшее над старым дубовым комодом. Он очень следил за своей внешностью и часто смотрелся в зеркало, отыскивая в своем лице черты того, кем ему хотелось бы стать. Его прямые черные волосы всегда были зачесаны идеально гладко; время от времени он выщипывал редкий темный пушок на переносице. Чтобы не было прыщей, не ел сладкого. Приучал себя не хохотать во все горло, а лишь улыбаться, да и то не слишком часто. Был очень консервативен в выборе цвета одежды, упорно работал над походкой, стараясь держаться прямо и ходить не спеша, легким, скользящим шагом. Ногти он подпиливал, а раз в месяц сестра делала ему маникюр. Он избегал драк – ему вовсе не хотелось, чтобы его приятное лицо обезобразил перебитый нос, а длинные тонкие пальцы распухли в суставах. Чтобы держаться в форме, он занимался спортом. Когда хотелось полюбоваться природой и насладиться одиночеством, ходил на рыбалку и ловил на блесну, если кто-нибудь наблюдал за ним, а если вокруг никого не было – просто на червей.
– «Ваш покорный слуга», – сказал он по-французски, глядя на свое отражение в зеркале и стараясь походить на настоящего француза: мисс Лено всегда выглядела истинной француженкой, обращаясь к классу по-французски.
Он сел за шаткий желтый столик, служивший ему письменным столом, придвинул к себе лист бумаги и попытался мысленно представить себе мисс Лено. Она была высокой, с узкими бедрами, тонкими стройными ногами и полной грудью, всегда торчавшей почти под прямым углом. Ходила на высоких каблуках, любила разные ленточки и щедро мазала губы. Вначале он нарисовал ее одетой. Лицо получилось не слишком похожим, и он добавил у висков по локону и заштриховал губы потемнее. Потом попробовал вообразить ее вообще без одежды. Изобразил нагой – мисс Лено сидела на высоком табурете и смотрелась в ручное зеркальце. Рудольф уставился на свое творение. «О Господи, неужели когда-нибудь…» И порвал рисунок. Ему стало стыдно. Такому, как он, только и жить над булочной. Узнай кто-нибудь из родных, о чем он думает и чем занимается у себя наверху…
Он начал раздеваться. Спальня матери была этажом ниже, и, чтобы она не догадалась, что сын еще не лег, он ходил по комнате в носках. Каждое утро ему приходилось вставать в пять часов и развозить на тележке, прицепленной к велосипеду, свежие булочки покупателям. И мать сетовала, что он не высыпается.
Со временем, когда он преуспеет в жизни и разбогатеет, он будет говорить: «Я вставал в пять утра и в дождь, и в хорошую погоду и вез булочки в гостиницу у станции, и в столовую Эйса, и в бар Синовского». Как ему хотелось, чтобы его звали не Рудольф!
IVНа экране кинотеатра «Казино» Эррол Флинн убивал японцев направо и налево. Томас Джордах сидел в последнем ряду и жевал в темноте карамель из пакетика, который он выудил из автомата в фойе, опустив вместо монеты оловянный жетон. По части изготовления таких жетонов он был большой мастер.
– Подкинь-ка одну, старик, – попросил его Клод нарочито грубым голосом, каким гангстеры в кинофильмах просят новую обойму.
Дядя Клода Тинкера был священником, и Клод, чтобы его из-за такого невыгодного родства не считали пай-мальчиком, старался произвести впечатление бывалого парня. Том щелчком подбросил карамель вверх. Клод поймал ее и начал громко чавкать. Ребята сидели, развалившись и положив ноги на спинки передних свободных кресел. Как всегда, они проникли в зал через окошко расположенного в подвале мужского туалета – решетку на окне они сорвали еще в прошлом году. И тот и другой заходили в зал, застегивая на ходу расстегнутые ширинки, будто только что вышли из туалета.
Томасу надоело смотреть фильм. Глядя, как Эррол Флинн с целым арсеналом разного оружия в одиночку уничтожает взвод японцев, он буркнул:
– Фонус болонус.
– На каком это языке вы говорите, профессор? – начал их обычную игру Клод.
– На латыни, – ответил Томас. – В переводе это означает – дерьмо.
– Какое глубокое знание иностранных языков! – покачал головой Клод.
– Глянь-ка вон туда, – сказал Томас. – Это же солдат с девчонкой!
Через несколько рядов от них сидел в обнимку с девушкой какой-то парень. Народу в зале было мало, и места вокруг парочки пустовали. Клод нахмурился.
– Он слишком здоровый. Посмотри, какая у него шея.
– Генерал, мы атакуем на заре, – торжественно произнес Том.
– Загремишь в больницу, – предупредил Клод.
– Хочешь на спор?
Том снял ноги со спинки кресла, встал и двинулся по проходу между рядами. Ноги в кедах бесшумно ступали по ветхому ковру, покрывавшему пол «Казино». Том всегда носил кеды. Необходимо быть наготове, чтобы при случае быстро смыться. Он развернул широкие плечи под свитером, втянул живот, чувствуя, как напрягся брюшной пресс под сильно стянутым ремнем. Том улыбнулся в темноте: вот теперь он готов, начинало нарастать возбуждение, как всегда при изготовке.
Клод, долговязый парень с худыми руками-палками, острой беличьей мордочкой, длинным носом и мягкими влажными губами, неуверенно пошел следом. Он был близорук, и очки отнюдь не украшали его. Хитрый интриган, всегда действовавший исподтишка, он умел выходить сухим из воды, не уступая в изворотливости ловким адвокатам крупных корпораций, и водил за нос учителей, ставивших ему хорошие отметки, хотя он почти не заглядывал в учебники. Он неизменно был одет в темный костюм с темным галстуком. Легкая сутулость придавала ему сходство с литератором, двигался он как-то виновато, неловко ставя ноги, и вообще производил впечатление скромного тихони. Его недюжинная изобретательность в основном проявлялась в хулиганских затеях. Отец Клода работал главным бухгалтером на заводе «Кирпич и черепица Бойлена», а мать, окончившая женский колледж Святой Анны, возглавляла общественную комиссию, призванную содействовать набору в армию. Положение родителей, наличие дяди-священника плюс собственная слегка отталкивающая внешность, которая вызывала жалость, позволяли Клоду безнаказанно осуществлять свои каверзные замыслы.
Ребята прошли по пустому ряду и сели позади солдата и его девушки. Солдат запустил руку девушке под блузку и тискал ее грудь. Он был в берете, надвинутом на лоб. Девица шарила рукой между ног солдата. И он, и девушка безотрывно смотрели на экран, следя за развитием действия. Ни он, ни она не обратили внимания на севших сзади мальчишек.