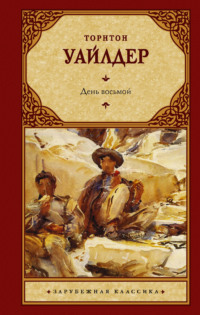
День восьмой
Роджер задумался. Хаксли и Кук, Гумбольд и Холмс? Роберт, Льюис, Чарлз, Фредерик. Тут была книга в красном переплете «Опухоли головного и спинного мозга» Эвариста Трента и еще одна – «Закон и общество» Голдинга Фрейзера, тоже в красном. Ему нравился красный цвет. Может, он станет доктором, а может, юристом, поэтому выбрал и то и другое.
И доктор Джиллис, вернувшись, вписал в письмо имя – Трент Фрейзер.
Утром 26 июля Роджер, решив, что нет необходимости обсуждать свои планы с матерью, отправился в Чикаго. Ее отношения с дочерьми были как ландшафт в хорошую погоду – ясные и немного холодноватые, а отношения с сыном – тот же ландшафт, только в бурю. Он ее обожал, но она часто его возмущала. Мать осознавала свои ошибки и корила себя за то, что всю любовь отдавала мужу, а детям мало что оставалось. И мать с сыном редко заглядывали друг другу в глаза, каждый и так понимал мысли другого, а для такой связи проявления нежности совсем не обязательны. Они безгранично любили друг друга и страдали оттого, что между ними стоял Джон Эшли, совершенно неспособный страдать и понимать, что является причиной чьих-то страданий.
София молча наблюдала, как брат пакует небольшой саквояж, чудом уцелевший после визита торговца подержанным товаром, потом поднялась наверх и принесла выстиранную и выглаженную матерью и Лили одежду и с кухни – пакет с нарезанным хлебом, без масла, но намазанный ореховой пастой домашнего приготовления и яблочным повидлом. Было семь часов утра, когда они вышли на крокетную площадку, в ту ее часть, которую не было видно из дома. Там Роджер опустился перед сестрой на колено, чтобы их лица оказались на одном уровне, и попросил:
– Софи, дорогая, ты не должна унывать: слышать об этом не хочу. Оставайся такой, какая есть. Это только наше с тобой дело. Я буду писать матери раз в месяц и посылать немного денег, но не стану открывать свое новое имя и адрес. Ты понимаешь почему: полицейские будут вскрывать каждое письмо, которое придет в наш дом, – а я не хочу, чтобы полиции стало известно, где я нахожусь. Это означает, что мама не сможет мне ответить, однако в течение полугода – а может быть, и больше – мне не нужно от нее никаких писем. Я должен полностью сосредоточиться на другом, и ты понимаешь, на чем, ведь так?
– На деньгах, – пробормотала Софи.
– Верно. Но я буду писать и тебе, тоже раз в месяц, только эти письма стану отправлять на адрес Порки, так что никто ничего не узнает. Поэтому слушай и запоминай. Первые несколько дней после пятнадцатого числа каждого месяца тебе придется ходить по улице, где работает Порки, мимо его окошка, но так, чтобы никто не заметил, что тебя интересует. Краешком глаза посмотри, вывесил ли он календарь: ну, ты помнишь, тот самый, с миленькой девушкой, что я подарил ему на прошлое Рождество. Если увидишь календарь, знай: для тебя есть письмо, – но в будку не заходи, просто вернись домой, найди какую-нибудь старую обувку и возвращайся к Порки как обычная клиентка. Никто – запомни, никто! – не должен знать, что мы пересылаем письма через него, иначе мы втянем его в неприятности. Он, как самый преданный наш друг, сам это предложил. Каждый раз в конверт с письмом для тебя я буду вкладывать еще один, уже с маркой и с моим адресом, а также с чистым листом бумаги, чтобы ты могла написать ответ. Когда стемнеет, дойдешь до почтовой конторы и бросишь письмо в ящик на углу. Это довольно большой крюк, но другого выхода нет. Пиши мне обо всем, что здесь происходит, ничего не скрывая: о маме, о сестрах, о том, как тут у вас идут дела, – и только правду. Это главное, о чем я тебя прошу.
Софи быстро кивнула, а Роджер продолжил:
– Теперь вот еще что: то, что произошло с папой, совершенно неважно. Важно другое – то, что начинается сейчас, что начинаем мы с тобой. Оставайся такой же, какой была. Не вздумай делать глупости, как большинство девчонок. Нам нужна ясная голова. Нам придется приложить максимум усилий, чтобы достать деньги. Даже если придется ради мамы их украсть, я готов.
Софи все это понимала, но для нее было важно другое, поэтому она тихо попросила:
– Ты должен мне тоже кое-что пообещать, Роджер. Дай честное слово, что что и ты ничего не будешь утаивать, – например, если вдруг заболеешь или еще что.
Роджер поднялся.
– Не проси меня об этом, Софи: у мужчин все по-другому, – но обещаю быть максимально правдивым.
– Нет-нет, Роджер! Я не могу пообещать писать тебе только правду, если ты не пообещаешь мне того же. Как можно требовать от меня быть храброй, если не объяснить зачем?
Это было столкновение характеров, и Роджер сдался:
– Ладно, обещаю. Это обоюдное соглашение.
София подняла на него глаза, и выражение ее лица он запомнил на всю жизнь, как и слова, которые она произнесла:
– И вот что я тебе скажу: если тебе что-нибудь понадобится в этом мире: деньги или еще что-то, – все достану и вообще все смогу.
– Я это знаю. – Он сунул руку в карман и вытащил пять долларов. – Софи, в ночь, когда сбежал из-под стражи, папа прислал мне свои золотые часы. Вчера я продал их мистеру Кери за сорок долларов и тридцать из них отдал маме, пять оставил себе, а вот эти отдаю тебе. Думаю, сейчас маме не до того, чтобы думать о деньгах: покупками занимаешься ты, – поэтому припрячь эту пятерку до тех пор, пока она действительно не понадобится.
И сразу же без дополнительных объяснений протянул ей свое самое главное сокровище – три наконечника кангахильских стрел из зеленого кварца, хризопраза.
– Ладно, я, пожалуй, пойду.
– Роджер, папа будет нам писать?
– Я сам об этом думаю, но не представляю, как это осуществить, не доставив и себе, и нам новых неприятностей. Ты же понимаешь, что он теперь вне закона. Спустя какое-то время – может, несколько лет – он, конечно, найдет способ связаться с нами, а сейчас, как мне кажется, самое лучшее – это на время забыть о нем и просто продолжать жить, вот и все.
София кивнула и шепотом спросила:
– А чем ты собираешься заниматься? В смысле, кем станешь?
Ее вопрос являлся лишь уточнением, в какой именно области он станет великим, и Роджер это понял.
– Пока не знаю, Софи.
Он не стал ее целовать: просто улыбнулся, кивнул и крепко сжал локти.
– А сейчас иди в дом и сделай так, чтобы мама не вышла на кухню, пока я не заберу плащ и не уйду через черный ход.
– Нет, Роджер, ты должен попрощаться с мамой! Ты ведь у нас единственный мужчина в доме. Пожалуйста!
Сглотнув комок в горле, он расправил плечи.
– Ладно, Софи, будь по-твоему.
– Она в гостиной шьет, – как и вчера вечером.
Поднявшись по ступенькам к задней двери, Роджер сделал вид, будто что-то забыл, и, миновав передний холл, вошел в гостиную.
– Мама, мне пора.
Покачнувшись, та поднялась. Она прекрасно знала, что сын – как и все Эшли – не любил целоваться, терпеть не мог праздновать день рождения и Рождество, ненавидел выносить сор из избы. Беата опять стала задыхаться, поэтому слова ее были едва слышны, тем более что произнесла она их на языке своего детства:
– Gott behutte dich, mein Sonn![2]
– До свидания, мама.
Он ушел. В первый – и единственный раз в жизни – Беата Эшли упала в обморок.
Что-то так и осталось невысказанным в разговоре Софии с братом на крикетной площадке.
Тех, кто не может платить налоги, отправляют в приют для неимущих. Таковой имелся в Гошене, в четырнадцати милях от Коултауна, и был словно черная туча, висевшая над жителями Кангахила и Гримбла. Даже оказаться в тюрьме считалось менее позорным, чем переехать в Гошен, однако его постояльцы наслаждались комфортом, которого у них никогда не было. Кормили здесь регулярно и сытно. Постельное белье меняли два раза в месяц. Виды с просторных веранд поднимали настроение. В воздухе не висело угольной пыли. Женщины занимались шитьем для больниц штата, мужчины работали на молочной ферме и в огороде, а зимой мастерили мебель. Правда, в коридорах постоянно воняло кислой капустой, но этот запах не казался отвратительным тем, кто жил в нужде. Здесь тоже можно было приятно проводить время, но никто не улыбался, не проявлял доброты – тяжесть стыда сокрушала людей. Пять дней в неделю заведение было тюрьмой, а в дни посещения родственников превращалось в ад. «Как ты себя чувствуешь, бабуля?» «Они хорошо с тобой обращаются, дядя Джо?» Переехать в Гошен означало, что ваша жизнь потерпела крах. Христианская религия, как ее понимали в Коултауне, устанавливала тесную связь между любовью Бога к человеку и деньгами. Бедность не только несчастье в глазах общества, это еще и очевидное свидетельство отпадения от Божественной благодати. Бог ведь обещал, что не допустит страданий выше человеческих сил, и получалось, что неимущие оказывались и вне земного, и вне небесного порядка вещей.
Для детей Гошен обладал своеобразной притягательностью пополам с ужасом. Среди одноклассников Роджера и Софии было несколько таких, чьи родственники жили в приюте. Им частенько приходилось испытывать на себе проявления детской жестокости: «Эй, ты, вали к себе в Гошен!» Все в городе слышали разговоры о том, как в приют отправили миссис Кавано. Она жила в огромном, заложенном и перезаложенном доме рядом с масонской ложей. И не платила налоги годами. Кормили ее прихожане баптистской церкви, которые по очереди приходили и оставляли ей пакеты с едой у задней двери. Но роковой день все-таки настал. Она кинулась на чердак, чтобы спрятаться там, пока объявившаяся вдруг в доме матрона принялась паковать ее вещи. Миссис Кавано буквально вытащили на улицу: когда несли по ступенькам, она, поджав ноги, цеплялась за косяки дверей и вопила что есть мочи. Потом старуху погрузили на телегу, как бодливую корову. Стоял июнь месяц, и окна у соседей были нараспашку. При криках женщины, огласивших улицу: «Помогите! Хоть кто-нибудь способен мне помочь?» – Когда-то миссис Кавано была гордой, счастливой и богатой, но Бог отвернулся от нее. Роджер и София знали, что их мать сойдет вниз и сядет в телегу из Гошена, как королева, и понимали, что только они могут уберечь ее от этого.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Мильтон Джон (1608–1674) – английский поэт, политический деятель, поборник суверенитета английской республики, противник реакции.
2
Храни тебя Господь, мой сын! (нем.)
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов