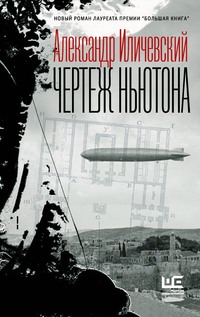
Чертеж Ньютона
Глава 7
В Мургаб
Добравшись из Бишкека в Ош на рейсовом автобусе, я добрел от автовокзала до выездного поста Ак-Босого, где познакомился с японкой Аюко, направлявшейся в Китай. Когда мы потом тряслись в хлебовозке, в щели кузова которой сочились дорожная пыль и лезвия солнечных лучей, я заметил тату-ящерку на ее лодыжке.
После перевала Талдык мы остановились. Замученный болтанкой, я сполз к ручью, опустил в него лицо. Японка разминалась у машины, опираясь на бампер, как на балетный станок; водитель сидел на корточках, курил.
Из Оша в Сары-Таш на границу с Китаем шли порожние фуры, обратный поток с грузом поднимался тяжело, дымя на низких передачах. Водила сказал, что граница с Китаем открыта только пять дней в неделю, поэтому в субботу попутных машин нет.
Сары-Таш находится на перекрестке четырех дорог, идущих на Ош, Таджикистан, Китай и на пик Ленина, и потому через поселок ежедневно струился поток иностранных туристов, включавших Памирский тракт в кругосветный маршрут: велосипедисты, мотоциклисты, пешие. Особенно популярным было направление на пик Ленина, куда стремились сотни альпинистов; иные же ехали в Китай или возвращались обратно, уже бородатые, навьюченные рюкзаками, и детишки встречали их воплями: «Хэллоу!».
В Сары-Таше, у ворот Памира, на меня обрушился позабытый свет заснеженных вершин. Альтиметр японки показывал около трех километров, и я обрадовался, когда она согласилась заночевать в мечети, куда мы добрели как раз к вечерней молитве, на которую явился один только старичок – имам и в то же время муэдзин, встретивший нас на пороге азаном[11]. Мы поужинали лепешками и кефиром и прогулялись по холмам, окружавшим село, а ночевать вернулись в мечеть. Ночью я слышал, как где-то капала вода, шуршали мыши. В приоткрытую дверь заглядывали звезды, заслонявшие друг друга в толще космического хрусталя; в эту толщу я и провалился, засыпая.
Рано утром мы вышли на трассу и до поста Бор-Дёбё тряслись в кузове, где ерзал плохо закрепленный мини-погрузчик – пришлось на него забраться, чтобы не оказаться раздавленными. Дальше пошли пешком, любуясь слепящими горами, словно отставленными солнечным светом одновременно и в непомерную даль, и в пристальную из-за прозрачности воздуха близость. В полдень зашли в домик к пастухам, где Аюко-Ящерка принялась фотографировать хозяйку, что крутила за столом ручку сепаратора, подливая в него молоко из помятого бидона. Дети тут же заварили чай, поставили на дастархан чашки и тарелку с лепешками, поглотив которые, я тут же захотел прикорнуть; но Аюко, расплатившись, потребовала продолжать путь, и мы, клонясь против ветра, зашагали навстречу меркнущему небу. Машин не было, высота чувствовалась по тому, как подкашивались ноги. На закате мы достигли барака, где жили пастухи, поставили рядом палатки. В ту ночь я часто просыпался, слышал, как Аюко ворочается, скрежеща зубами и поскуливая во сне. Утром, перед тем как собрать палатку, я походил вокруг бесцельно, хрупая ледком, когда ступал по замерзшим лужам. Мы поднялись к трассе, но сил идти не было – так и просидели на рюкзаках до полудня, пока не показался порожний джип, направлявшийся к таджикской границе, чтобы забрать туристов.
В Кызыл-Арте мне снова, как и накануне утром, когда мы шли, ослепленные сиянием гор, почудилось в воздухе какое-то мельтешение – будто кристалл рассыпался на множество граней, а они, запорхав, составили вдруг крылатое чудище и после снова рассыпались и растворились.
К полуночи мы оказались в Мургабе, где опять ночевали в мечети; на рассвете нас разбудили старики, пришедшие на молитву, и один из них пригласил нас на завтрак. В полдень стих пронизывающий ветер, всю дорогу забивавший нам уши и рты, выцарапывавший глаза, и теперь я стал узнавать этот городок. На рынке здесь из вагончиков, оставшихся после геологических партий советских времен, торговали втридорога всякой всячиной: гнилыми яблоками, разбавленной газировкой, просроченными медикаментами. Повсюду бестолково бродили люди, и над главной улицей высился огромный стенд: «Достойно встретим двадцатилетие независимости Таджикистана!»
Здесь я расстался с Аюко; мы обнялись, сфотографировали друг друга на телефоны, и я помог ей загрузиться в джип – с водителем она сторговалась, и он принял ее в группу туристов, которых взялся доставить на границу с Китаем. Так я остался один на один с рыже-серыми горами, с тусклой зеленью, акварельно проступающей в речных поймах, среди густой лазури, окаймленной парусами гор; плато, где я стоял, казалось ступенькой стремянки, с которой можно заглянуть на стропила небес.
От Мургаба до Ак-Архара я шел тридцать верст, и сдавалось мне, я узнаю эти места. Путь мой проходил через выпуклое плато, то узкое, то простиравшееся до горизонта, и все время отодвигавшее зубья горных вершин. Дышать стало легче, и после двух перекладок с машины на машину я прибыл в кишлак, находившийся в устье ущелья Ак-Архар; оттуда мне предстояло подняться к лаборатории физики высоких энергий «Памир-Чакалтая». В пору, когда я был здесь студентом, походы за молоком и сыром в этот кишлак были единственным развлечением практикантов. Станция находилась словно в открытом космосе – кругом камни, скалы, сыпучка, по которой некуда и незачем, да и мучительно для ног гулять: угол обзора и вид не менялись нисколько. После тяжелой работы мы просиживали вечера за преферансом; и было еще развлечение – подняться от кишлака через рощу арчовника к пиру – священному месту, в пещеру, почитавшуюся захоронением некоего великого суфия, когда-то принесшего свет познания божественной сущности в эти пустынные высоты. Посреди пещеры находилось огромное надгробие, выбеленное и выкрашенное синькой. Я представлял себе, что здесь лежит великан – волшебник, воин размером с каланчу. Мне нравилось на закате прийти в пещеру, развести костерок у входа и смотреть на клонившееся за горные вершины солнце, оглядываясь иногда на гробницу, большую и синюю, как небо.
В кишлаке я заглянул на метеостанцию, где познакомился с Хуршедом – сорокалетним метеорологом, владельцем зеленой «Нивы», под капотом которой он проводил существенную часть дневного времени, снова и снова разбирая и продувая карбюратор, требовавший особой настройки жиклёров в условиях высокогорья. Он был мне рад, Хуршед, добродушный памирец с иссиня-черной, без единого седого волоска шевелюрой, с ровными зубами, коренастый, скуластый, с выскобленной солнцем и ветром кожей. Оказалось, он и сельчане уже двадцать лет ждут хоть кого-нибудь, кому можно было бы дать отчет по станции, над которой они взяли шефство. С годами она превратилась для них в храм неведомой религии, они решили сберечь его из почтения, как сберегали, например, русские церкви в республиках Средней Азии. Я стал расспрашивать, сохранилось ли что-нибудь из оборудования, в каком состоянии эмульсионная камера, заряжена ли. Хуршед созвал соседей, привел барана и устроил пир горой; тогда я и узнал, что в начале девяностых явились в кишлак крутые парни с оружием и велели провести их на станцию; осмотрелись, решили продать свинец в Китай и отправились искать покупателя, а тем временем жители кишлака переписали все оборудование и разобрали приборы по домам. С тех пор было тихо, дорогу на станцию рассек оползень, так что большегрузам там не проехать, а этой зимой сошла лавина, примяла ангар.
– А если честно? – спросил я. – Так не бывает. Прошло двадцать лет, и вы утверждаете, что станция осталась в неприкосновенности. За пять лет может исчезнуть город, если его оставить наедине с пустыней. Песок заметет улицы, осыплются кровли, руины смолотит буран. А здесь всего только станция.
– Еще пленный немец строил, крепко строил, – сказал Хуршед. – Ты прав, дорогой гость. Бандиты еще раз приходили, с покупателем, китайцем, пришел смотреть свинец. Жили на станции. Только потом они все бежали. Зверь их порвал. Большой когти, – памирец расставил пальцы и согнул их. – Ашур говорил, что на станцию зверь пришел. Большой зверь, но его не видно, только Ашур видеть может.
– Кто такой Ашур? – спросил я.
– Святой человек, – покачал головой Хуршед. – Сторож пира. Хазрат[12] Перс охраняет нас. Ашур помогает ему. Почему я не хочу в Россию? Четыре раза ездил на стройку, не остался. Здесь мои горы, хазрат Перс нас держит, такой зикр[13]. Горы вокруг – это его молитва. Он держит их и меня вместе с ними.
– Я понял. На станции поселился зверь, который никого к станции не подпускает, а в пещере у пира обитает Ашур, который охраняет могилу хазрата Перса.
Хуршед кивнул.
– А почему никто не видел зверя на станции? – спросил я. – Может, это только медведь?
– Хирс не может быть. Хирс кушать должен, барана драть будет. У нас стада целые, одна-другой баран пропадет, остальные гуляют. Я слышал, как он кричит.
– И я слышал, – закивал человек с татуировкой «Маша + пронзенное сердце» на запястье. – Очень страшно, так зверь не кричит. Пограничники тоже говорили. Начальник их не смеялся. Он знает, что бывает, если верхние приходят.
Хуршед глянул на меня исподлобья:
– Завтра к Ашуру пойдем. Сходим, доложимся.
Я засыпал, предвкушая завтрашний день и переживая, не подпортила ли влага пленки: лавина – дело нешуточное, и, если кассеты пролежали половину зимы и весну под завалом, наверняка что-то оказалось подмоченным. Потом вдруг всполошился: а как же электричество, как насчет электричества? Я ворочался с боку на бок, пока не пробрался в коридор, постучал в косяк двери:
– Хуршед!
– Да, уважаемый.
– А электричество на станции есть?
– Э-э, я отключил трансформатор. Боялся, если кто провода отнять хочет: цветной металл! Завтра я тебе намотаю.
– Стой, Хуршед. Я не понял. Ты обесточил трансформатор и снял со столбов провода?
– Не так немножко. Провод оставил, снял только на «воздушках», чтобы вор не видел.
– Ладно. Просто мне электричество там нужно.
– Если не будет напряжения, возьму у брата генератор. Два киловатта!
Наутро я проснулся один в доме, но в печурке тлел кизяк, за порогом сыпал дождь в кромешной мгле – набежала облачность, и вокруг за несколько шагов ничего не было видно. На станцию подниматься в такую погоду не могло быть и речи, и я присел рядом с печкой погреться, послушать, как шумит на ней и пощелкивает алюминиевый мятый чайник.
Хуршед незаметно возник на пороге, сказал:
– Хоп! Как спал, дорогой гость? – и присел ко мне, раздул огонь, стал варить какао.
После завтрака Хуршед собрал в полотняный мешочек конфеты и лепешки, я взял рюкзак, и мы отправились через арчовник к Ашуру. Я заметил, что деревья нисколько не подросли за двадцать лет, потому что арча – медленное дерево, как фисташка или секвойя, она застывает в веках. Пещера оказалась пуста, лишь теплился очаг; там Хуршед и оставил меня, а сам скользнул обратно в туман; оглядевшись, я обнаружил дастархан, медный чайник, котелок, немного дров, которые подложил в очаг, но главное – могилу хазрата. Пламя разгорелось, и я присел к гробнице, представляя, как великан хазрат раскинулся под камнем, но тут жемчужный туман, теперь мешавшийся с дымом, сгустился, и шагнул из него на порог Ашур – высокий человек, с посохом, в брезентовой куртке нараспашку, босой, с закатанными штанинами, со смуглой грудью, твердой и выпуклой, как орех, увешанной амулетами на кожаных шнурках, заросший бородой, но не непроницаемо густо, а с открытым ясным лицом, и главное – с чуть раскосо посаженными газельими глазами. Ашур опирался на узловатый отполированный в верхней части посох; все долгое тело суфия было сложено необыкновенно, пластика сосредоточенных движений, как у фехтовальщика, заставляла следить за ним: тонкие стопы, волосатые сухие лодыжки, израненные колючками, длинные пальцы, вымазанные углем, в мехе бараньей шапочки застряли веточки и травинки. Говорил он по-английски, всё уже знал обо мне от Хуршеда. Английский язык Ашура был британским, выученным по лингафонным пластинкам, размеренным и чуть манерно аккуратным.
Недолго помолившись у гробницы, Ашур расправил лоскутные одеяла и несколько овчин вокруг плоского камня у очага, насыпал конфет, заварил чай, и мы занялись беседой. Оказалось, Ашур – житель Ирана, суфий, каждый год в апреле оставляет семью и отправляется на послушание; живет здесь до сентября, присматривает за гробницей, кормится подношениями, которые оставляют ему благочестивые паломники и жители Ак-Архара. Еще во времена СССР Ашур приходил сюда ребенком вместе со своим отцом; когда тот умирал, Ашур обещал присматривать за ложем хазрата, что с помощью Бога и совершает: в позапрошлом году Хуршед помогал ему чинить гробницу, крышка которой треснула после землетрясения (потом я рассмотрел на каменной плите, испещренной вязью, трещину, аккуратно замазанную алебастром).
Ашур принял пиалу с чаем от Хуршеда и заговорил:
– Ты собираешься забрать то, что хранится на станции. Я вижу тебя, и я понимаю, что это важное для тебя дело. Но существо, которое поселилось на станции, не даст тебе унести знание.
– Там медведь?
Ашур склонил голову:
– Нет, хирс в арче ходит.
– А кто же там, на станции?
Ашур промолчал.
Хуршед положил руку мне на плечо:
– Ашур скажет – так делай.
– Хорошо, – я кивнул.
Вечером мы сидели у костра, как вдруг совсем рядом раздался рык. Я вскочил. Хуршед схватил из огня горящую ветку. Ашур собрал с дастархана конфеты, лепешку и шагнул в темноту.
Через некоторое время он вернулся:
– Старый хирс приходил. Слышит, нас трое, заволновался, решил проведать.
Спали крепко. Утром Хуршед молился, Ашур сидел в медитации, я сходил за водой к роднику, разжег костер. Попили чаю, и Хуршед простился.
Когда его спина скрылась в арчовнике, Ашур произнес:
– Не бойся ничего. Я помогу.
Глава 8
Станция
Вечером я спросил вернувшегося от родника Ашура:
– Как же я пойду на станцию?
Ашур поставил баклажку с водой на землю:
– Зверь ждал тебя. С одной стороны, он охранял. С другой – зверь есть зверь и сразу не пустит. Но не бойся, я дам тебе вот это. – Ашур снял с груди амулет – гвоздь. – Это могучее оружие. Если что – бей в глаз.
Я недоверчиво рассмотрел гвоздь:
– Оружие?
Утром Ашура в пещере не было; я умылся, глотнул холодного чаю и быстро собрался. Дорога на станцию заняла остаток светового дня, и, когда я вышел к ангару и двум зданиям основательной постройки, уже садилось солнце. Я обрадовался, увидев перед ангаром (как оказалось, не слишком поврежденным лавиной) «Ниву» Хуршеда. Оглядевшись, я увидал его на взгорке – он спускался со столба на «кошках», закончив монтаж проводов.
– Принимай работу, – приветствовал меня Хуршед. – Найди розетку.
Простившись с Хуршедом, я постоял, глядя, как кивают и рыскают фары, как ближний свет зарывается в колею, как густеет тьма над Памиром и гаснут отсветы с вершин уже канувшего за горизонт, но еще подсвечивающего высотные зубья солнца, и отправился оборудовать ночлег. В ангаре я сложил из камней очаг, развел костер, отломав от кабельных катушек несколько досок. Пламя поднялось повыше, и в его отблесках я хорошо рассмотрел массив из стопок листового свинца и перемежавшихся им кассет.
Видели ли вы, как кладоискатель после удара кирки по кованой крышке сундука впивается лопатой в оставшийся грунт? Видели ли вы, как споро и точно каменщики возводят кладку, строя дом для собрата своего каменщика? Так и я не заметил, как сознание погрузилось в мед сосредоточенности, уступив телу свою выносливость.
Первым делом я оборудовал на стеллаже в ангаре лежанку, распустил для очага на щепы крышку стоявшей тут школьной парты, за которой когда-то сидели лаборантки, с лупой изучавшие каждый квадратный сантиметр пленки, но прежде обследовал заброшенные здания и особенной разрухи не обнаружил. Мне было интересно покопаться в архивных закутках, где нашлись фотки с субботников и походов на ближайшие вершины участников того или другого сезона и групповые снимки вместе с более или менее значительными учеными, посещавшими станцию. Я узнал Скобельцына, Гинзбурга, Векслера, Тамма; Векслер был одним из основных энтузиастов создания станции, и за его плечами на фотографиях можно было рассмотреть все стадии строительства. Вот возводятся одноэтажные приземистые строения – торчат стропила, кладется кровля; а вот сооружается первая версия рентген-эмульсионной камеры, раз в двадцать меньшей по площади, чем нынешняя, первопроходческий вариант: горят горелки, клепаются ребра швеллеров, вся конструкция напоминает пролет моста – раскосины, перекладины, этажерчатые переносицы кровли. Теперь мне предстояло карабкаться по этим стальным бровям, чтобы демонтировать колонны свинцовых кассет, собравших двадцатилетний урожай сообщений Вселенной – речений мироздания, пронизавших фотоэмульсию космическими ливнями, вызванных ударами разогнанных взрывчатым рождением мира частиц. Я всматривался в фотографии неизвестных или смутно знакомых людей, пока наконец не осознал, чтó именно так завораживает меня: коллективные снимки – головы и плечи веером в несколько рядов – напоминали снимки хора, поставленного так, чтобы звук шел поверх каждого следующего ряда в фокус параболы, по которой их выстроил дирижер, формируя амфитеатр тел, тонущих в пучине времени.
Я приспособил снятую в жилом корпусе дверь под верстак, заточил нож, положил рядом с ноутом, сканером, воткнул накопитель, метнулся в лабораторный корпус, поискал, нашел стабилизатор, проверил его работоспособность. Потом устроил перекус и, пока прихлебывал крепчайший чай, оглядывал вприщур пирамиду кассет, прикидывая, во что мне обойдется взятие этой вершины. Никак не мог точно сосчитать стопки и взобрался по швеллерам повыше – вот они все, метр на метр, две тысячи кассет горкой. Я засучил рукава. Цикл состоял в том, чтобы вскарабкаться на рабочий участок, затем, орудуя по периметру отверткой, вскрыть кассету, лист свинца снять аккуратно, не повреждая плотный конверт с пленкой, отложить, конверт пронумеровать в соответствии с утвержденной в журнале работ координатной сеткой, распаковать так десяток кассет, спуститься к верстаку и с помощью рейсшины, подобранной вместе с другими инструментами в проявочной, приняться за точную кройку. Затем я снова нумеровал раскроенные части, а когда все было готово, отправлял полученные сканы в программную сшивку, после чего сбрасывал результат на накопитель. Дня за три такой работы, которой не было конца и краю, я вошел в состояние, похожее на глубоководное погружение. Единственной эмоцией, пробивавшейся ко мне с поверхности мира, была уверенность в моем методе, в том, что он сможет справиться с такой густотой данных, с пережженными струями частиц участками пленки; но, сканировав и оцифровав две тысячи квадратных метров, восемь тысяч сканов, при обработке я еще должен был совместить все стопки и восстановить в одну объемную картину все струи-события, прошившие камеру.
День я начинал на рассвете и заканчивал с заходом солнца, поднимаясь на ближайший взгорок, откуда закат выглядел в точности марсианским: косые солнечные лучи делали еще смуглей шершавые от острых камней скулы склонов.
Долго ли, коротко, я потерял счет дням. Иногда, чтобы встряхнуться, я уходил слоняться по станции, снова и снова заглядывал во все комнаты и помещения, примечая там и здесь полезные вещи, находя то коробку рассохшихся карандашей, то рулоны кальки, то упаковку копирки, аптечку с истлевшими эластичными бинтами, жгутами и пузырьком с марганцовкой; нашел и кипятильник.
Ничто ни на земле, ни на небе не было способно отвлечь меня от дела. Но уже два или три раза то ли во сне, то ли наяву отдаленно слышал я некий мрачный низкий рев, не предвещавший ничего хорошего. И сегодня днем он раздался отчетливо. Я выскочил наружу. Нечто сгустилось в воздухе, заиграло кристальными гранями, смутная фигура крылатого существа взметнулась передо мной, заколыхалась блестевшими срезами, будто покрытое дробящейся чешуей, и вдруг грани стерлись на распахнутых крыльях, и вновь прозрачный объем приземистых зданий, окруженных изломанной гористой местностью, предстал передо мной, будто на поверхности воды успокоилась мгновенно рябь.
Вечером заехал ненадолго Хуршед, привез продуктов, сказал на прощание:
– Ашур велел передать, чтобы ты не боялся.
– Да как тут не убоишься?
– Ашур сказал: не бойся, делай свое дело.
А что мне еще оставалось? С юности я знал, что работа может человека если не спасти, то облагородить. Чумные годы, когда Кембридж опустел в 1665 году, Ньютон провел в уединении. Он уехал домой, в Вулсторп, захватив с собой книги и тетради, спасаясь не только от опустошительной эпидемии, но и от войны с Голландией и от Великого лондонского пожара. Там он и сделал большую часть своих научных открытий, там открыл закон всемирного тяготения. Именно тогда, писал Галлею позднее Ньютон, он выразил обратную квадратичную пропорциональность тяготения планет к Солнцу в зависимости от расстояния и вычислил правильное отношение земной тяжести и стремления Луны к центру Земли. Пример отшельнической работы молодого Ньютона всегда был для меня образцом сосредоточенности, тем более сейчас, когда я вплотную приблизился к бесценным залежам данных, способных приоткрыть тайну темной материи, имеющей непосредственное отношение к закону тяготения. И мне было безразлично, во что мне обойдется «сопротивление материала».
Глава 9
Работа
Я все готов был стерпеть ради работы. Однажды проспал рассвет и в счастливом полусне приоткрыл глаза: в проеме ангара дышала огромная шерстяная спина с заложенными на загривок ушами-простынями. Я зажмурился и пробормотал, улыбнувшись: «Калощадка пришла», – махнул рукой, словно пытаясь погладить, но забылся, а когда снова открыл глаза, увидал, как широченная меховая спина рванула за угол ангара.
С тех пор калощадку я видел на склонах регулярно, гадая, что же она делала: паслась, слонялась, облизывая голые камни, или просто сидела там и тут – мне некогда было подолгу за ней следить. Она могла несколько часов кряду пробыть в одном и том же месте, понемногу сползая своими роговыми колесами по склону и вызывая осыпь, а то вдруг этот слоновый кролик начинал громко вздыхать, будто разгонял внутри мехи, и кидался со всего маху куда-нибудь, причем момент полета был великолепен: чудовищного объема живая масса внезапным скачком проносилась по склону, только развевались рваные кончики ушей да слышалось из-под земли идущее эхо удара.
А особа в красном появлялась вскользь, непременно в боковом поле зрения, пока я сканировал кройку; стояла скромно, прекрасное лицо ее было скрыто вуалью теней, и любая попытка обратиться к ней, даже мысленно, приводила к ее исчезновению: она пропадала, как вспархивает бабочка под протянутыми пальцами. Понемногу я привык к ней, поняв, что это один из примкнувших ко мне стражей, и, когда спускался с пирамиды и усаживался за кройку и сканирование, ждал ее появления – сначала напряженно, а потом уже слегка даже бравируя, мол, соскучился, – но все равно пугался, только меньше, ибо человек способен привыкнуть ко всему, в том числе и к рассеченной реальности.
И пусть работа спорилась, все же меня стало занимать, что происходит на станции, пока я сплю, – поскольку однажды окончательно пришлось себе признаться, что за ночь по мелочи, но неизбежно что-то меняется в обстановке: то пропадет рейсшина, то перепутана последняя кройка, то вдруг на пирамиде сдвинута кассета, даже вскрыта, но лист не убран, просто отложен в сторону, конверт с пленкой не тронут. Наконец, когда утром я не обнаружил на верстаке сканер и искал его в панике по всему ангару, а нашел только у лежанки, в ногах, спрятанный под рюкзаком, я из фотоувеличителя, выисканного в проявочной, соорудил штатив и укладывался теперь на сон грядущий под неусыпным оком видеокамеры, устанавливая ее под разными углами и в разных местах, пытаясь получить представление о ночной жизни на станции.
Несколько ночей понадобились мне, чтобы понять, что к чему. Я так изнемогал за день, осваивая верхотуру в ангаре, что едва успевал застегнуть спальник, как сон валил меня борцовски в партер небытия. И хоть и помнил я успокоительные слова Ашура, все равно после того, как утром проснулся с накопителем, зажатым в руке, мною овладела оторопь. В результате охоты за самим собой с помощью камеры стало ясно, что редкую ночь целиком я провожу на лежанке. Непременно через полтора-два часа покоя встаю, обхожу ангар, беру с верстака накопитель и с ним в руках возвращаюсь к пирамиде. Я взбираюсь на нее и затем по верхним швеллерам поднимаюсь на стропила, откуда шагаю ровнехонько под самый конек ангара, где и стою полночи. Несколько раз я слышал в записи знакомый рев, и однажды перед камерой метнулось что-то блескучее, как крылатая змея, и я сбросил все видеофайлы на ноут.
Вскоре пришлось всерьез сопротивляться погоде: облако наползло, уселось на мель на здешнем высокогорье, его клочья вползали в прорехи ангара, сбавляя видимость. Постепенно интерес мой к ночным похождениям ослаб, мне наскучило раз за разом видеть, как я прохожу на цыпочках мимо камеры, пропадаю из виду, а через некоторое время появляюсь в глубине кадра, взбираюсь на верхотуру, где простаиваю до предрассветного полумрака словно часовой. Днем в памяти вспышками возникали пугающие картины: я видел с высоты, как внизу подо мной бушевало и бесновалось крылатое существо, мельтеша потоками как будто бы зеркальных перьев, и мне непонятно было, отчего ему никак не удавалось прихватить меня своим клювом.

