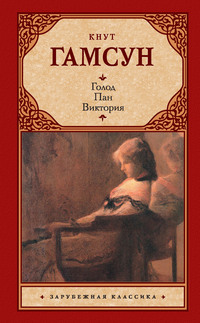
Голод. Пан. Виктория (сборник)
– Нет, тебе, право, нужно сходить к пастору Левисону. Непременно. Попытка не пытка. Терять-то нечего. Да и погода прекрасная.
Я зашел в книжный магазин Паши, справился в адресной книге, где живет пастор Левисон, и отправился к нему.
– Ну, теперь надо взять себя в руки, – сказал я. – Хватит шуток! Совесть, говоришь? Вздор, ты слишком беден, чтобы носиться со своей совестью. Ты голоден, ты идешь по важному делу, просить о самом необходимом. Ты должен склонить голову к плечу и говорить проникновенным голосом. Не хочешь? В таком случае я тебе больше не друг, так и знай. Вот что: ты истерзан тревогой, борешься по ночам с силами мрака и с огромными безмолвными чудищами, погибаешь от голода, жаждешь вина и молока, но не имеешь ничего.
Дела твои плохи. Вот ты стоишь, и ничегошеньки нет у тебя за душой. Но ты, слава Богу, веруешь в милосердие, ты все-таки не утратил веры! И чтобы верить в милосердие, ты должен сложить руки и быть хитрее самого сатаны. А Маммону ты ненавидишь во всякой личине; другое дело – получить молитвенник и две кроны на память… Я остановился у двери пастора и прочел: «Прием от 12 до 4».
– А теперь без глупостей! – сказал я. – Дело нешуточное! Итак, склони голову к плечу…
Я позвонил.
– Нельзя ли мне видеть пастора? – сказал я горничной; но не мог добавить: «во имя Господа».
– Он ушел, – ответила она.
Ушел! Ушел! Планы мои разом рухнули, все заготовленные слова оказались ни к чему. Что было пользы идти так далеко? Я не мог двинуться с места.
– У вас важное дело? – спросила горничная.
– О нет! – ответил я. – Совсем пустяковое! Просто сегодня такая прекрасная погода, поэтому я решил прогуляться и засвидетельствовать свое почтение пастору.
Я не двигался, она тоже. Я нарочно выпятил грудь, чтобы обратить ее внимание на булавку, которой была заколота моя куртка; я молил ее взглядом понять, зачем я пришел; но бедняжка ничего не поняла.
– Да, погода прекрасная. А фру тоже нет дома?
– Фру дома, но у нее ревматизм, она лежит на диване и не может подняться… Не угодно ли мне оставить записку?
– Ах нет! Просто я иногда выхожу прогуляться, подышать свежим воздухом. А сегодня такой чудесный день.
И я поплелся обратно. Что было толку болтать? К тому же у меня начала кружиться голова; это была не шутка, я мог упасть. Прием от 12 до 4; я опоздал на целый час, время милосердия истекло!
Дойдя до площади, я присел у церкви на скамейку. Боже, каким мрачным представлялось мне будущее! Я не плакал, у меня не было на это сил; измученный до предела, я сидел бесцельно и неподвижно, сидел, терзаемый голодом. Грудь моя в особенности пылала, внутри нестерпимо жгло. Я пробовал жевать стружку, но это больше не помогало мне; челюсти мои устали от напрасной работы, и я уже не утруждал их. Я покорился. К тому же кусок почерневшей апельсинной корки, который я подобрал на улице и тотчас же принялся жевать, вызвал у меня тошноту. Я был болен; на руках у меня вздулись синие жилы.
Чего я, собственно, ждал? Целый день я пытался раздобыть крону, которая могла поддержать во мне жизнь на несколько лишних часов. В конце концов, какая разница, свершится ли неизбежное днем раньше или днем позже? Порядочный человек на моем месте давным-давно пошел бы домой, лег и смирился. Мои мысли вдруг прояснились. Теперь я должен умереть. Стояла осень, мир был скован дремотой. Я испытал все средства, прибегнул ко всем источникам, какие знал. Я носился с этой мыслью и всякий раз, когда во мне еще брезжила надежда, с грустью шептал: «Глупец, ты уже умираешь!» Предстояло написать кое-какие письма, привести все в порядок, приготовиться. Нужно было хорошенько вымыться и убрать постель. Под голову я положу два листа белой писчей бумаги – это самое чистое, что у меня оставалось. А зеленым одеялом я мог бы…
Зеленое одеяло! Я вдруг встрепенулся, кровь бросилась мне в голову, и сердце мое сильно забилось. Я встал со скамейки и спешу вперед, жизнь снова пробудилась во мне, и я то и дело повторяю отрывисто: «Зеленое одеяло! Зеленое одеяло!» Я иду все быстрее, точно стараюсь кого-то догнать, и вскоре снова оказываюсь в своем жилище – мастерской жестянщика.
Не мешкая и не колеблясь в своем решении, я подхожу к кровати и скатываю одеяло Ханса Паули. Какая прекрасная мысль пришла мне в голову, теперь я спасен! Я преодолел свою постыдную нерешимость, я махнул на все рукой. Ведь я не святой, не какой-нибудь добродетельный идиот. Я в здравом уме…
Взяв одеяло под мышку, я отправляюсь на Стенерсгатен, в дом номер пять.
Я постучал и вошел в большую незнакомую комнату. Дверной колокольчик у меня над головой прозвенел громко и отчаянно. Из соседней комнаты вышел какой-то человек с набитым ртом и встал за прилавок.
– Дайте мне полкроны за эти очки! – сказал я. – Через несколько дней я их непременно выкуплю.
– Что? Ведь оправа просто стальная?
– Да.
– Нет, я не могу их взять.
– Разумеется. Ведь я, собственно, пошутил. Вот у меня тут одеяло, которое, в сущности, мне больше не нужно, и я хотел бы от него избавиться.
– К сожалению, у меня целый склад одеял, – ответил он, а когда я развернул одеяло, лишь мельком взглянул на него и воскликнул: – Прошу прощения, но это мне тоже без надобности.
– Я нарочно сразу показал вам изнанку, – с лицевой стороны оно гораздо лучше.
– Все равно я его не возьму, ведь никто не даст за него даже десяти эре.
– Понятное дело, оно ничего не стоит, – согласился я. – Но мне казалось, что вместе с другим старым одеялом его можно продать.
– Нет, нет, напрасный труд.
– Может быть, дадите хоть двадцать пять эре? – спросил я.
– Нет, право, я не могу его взять, милейший, оно мне совершенно ни к чему.
Я снова сунул одеяло под мышку и пошел домой.
Как ни в чем не бывало я разостлал одеяло на кровати, тщательно расправил его, как будто и не носил никуда. Решившись на эту авантюру, я, кажется, был не в своем уме; и чем больше я думал об этом, тем нелепее представлялся мне мой поступок. Очевидно, это был приступ слабости, какое-то внутреннее отупение. Но я почувствовал, что это западня, понял, что теряю разум, и первым делом предложил процентщику очки. А теперь я был так рад, что не совершил преступления, которое отравило бы последние часы моей жизни.
Я снова пошел бродить по городу.
У храма Спасителя я опять сел на скамейку, свесил голову на грудь, истерзанный недавними волнениями, больной и изнуренный голодом. А время шло.
Я просидел час под открытым небом; здесь было светлее, чем дома; кроме того, мне казалось, что на свежем воздухе не так мучительно ныла грудь; я не спешил вернуться домой.
Я дремал, раздумывал, и мне было очень тяжко. Я подобрал камешек, обтер его, сунул в рот и стал сосать; при этом я почти не шевелился и даже не моргал. Мимо проходили люди, слышался грохот карет, стук подков, голоса.
Отчего бы не попытать все-таки счастья с пуговицами? Конечно, из этого ничего не выйдет, и, кроме того, я положительно болен. Но если хорошенько все взвесить, то ведь все равно по дороге домой я пройду мимо лавки процентщика, того самого, к которому я так часто заглядывал.
Наконец я встал и медленно, бессильно поплелся по улицам. Лоб у меня горел, начиналась лихорадка, и я спешил, как мог. Я снова прошел мимо булочной, где в витрине был выставлен хлеб.
– Ну вот, остановимся здесь, – сказал я с деланной решимостью. – А если войти и попросить кусок хлеба? – Эта мысль была мимолетна, она вспыхнула, как искорка; в действительности я этого не думал. – Тьфу! – прошептал я, покачал головой и пошел дальше, смеясь над самим собой. Я отлично знал, как бесполезно было заходить в лавку с этой просьбой.
В переулке влюбленные шептались у ворот; чуть подальше девица высунулась в окно. Я шел так медленно и осторожно, что могло показаться, будто я чего-то хочу, – и девица вышла на улицу.
– Как поживаем, старина? Что такое, ты болен? Господи, да на тебе лица нет!
И девица быстро ушла в дом.
Я тотчас же остановился. Что значит: лица нет? Неужели я умираю? Я коснулся рукою щек: да, конечно, я очень худ. Щеки ввалились, они были как два блюдца. Ах ты Господи! И я поплелся дальше.
Потом я снова остановился. Должно быть, моя худоба чудовищна. И глаза совсем ввалились. Интересно, на кого я похож? Разнесчастная моя судьба, живой человек превратился от голода в этакую развалину! Меня снова охватило бешенство, это была словно последняя вспышка, судорога. Стало быть, лица нет? У меня хорошая голова, второй такой не сыскать во всей стране, и пара кулаков, которые – Боже избави! – могли бы стереть человека в порошок, и я гибну от голода в самом центре Христиании! Разве это мыслимо? Я жил в свинарнике и надрывался с утра до ночи, как черный вол.
От чтения у меня не стало глаз, мозг иссох от голода, – а что я получил взамен? Даже уличные девки ужасаются и кричат «Господи!» при виде меня. Но теперь этому придет конец, – понятно тебе? – придет конец, черт возьми!.. Я трясся от бешенства и скрежетал зубами, слабость захлестывала меня, в глазах стояли слезы, с губ слетали проклятия, и так я плелся вперед, не обращая внимания на прохожих. Я снова начал мучить себя, намеренно стукался лбом о фонарные столбы, глубоко вонзал ногти в ладони, в безумии кусал себе язык, когда начинал говорить бессвязно, и хохотал всякий раз, когда мне было больно.
– Да, но что же мне делать? – говорю я наконец самому себе. И несколько раз топаю ногой, повторяя: – Что же делать?
Какой-то случайный прохожий говорит мне с улыбкой:
– Попросите, чтобы вас арестовали.
Я посмотрел ему вслед. Это был известный гинеколог по прозвищу Герцог. Даже он не понял моего состояния, а ведь мы были знакомы и здоровались за руку. Я присмирел. Попросить, чтобы меня арестовали? Да, он прав, я сошел с ума. Я чувствовал безумие в своей крови, чувствовал его искры в мозгу. Так вот какой мне уготован конец! Да, да! И я поплелся дальше медленным, похоронным шагом. Значит, вот какая судьба меня ждет!
Вдруг я снова останавливаюсь.
– Только не арест! – говорю я. – Только не это!
Я потерял голос от страха. Я просил, я молил всех святых, чтобы они избавили меня от ареста. Ведь я опять попал бы в ратушу, меня заперли бы в темной камере, где нет и проблеска света. Только не арест! Были и другие возможности, которые я еще не испытывал. Но я их испытаю, я буду упорен, не пожалею времени, стану неутомимо ходить из дома в дом. Есть, например, музыкальный магазин Сислера, туда я и не заглядывал. Чем не выход из положения… Я бормотал на ходу, а потом снова тихонько заплакал от жалости к себе. Только бы меня не арестовали!
Сислер? Может быть, это наитие свыше? Его имя пришло мне в голову само собой, и жил он так далеко; но я наведаюсь к нему, я пойду медленно и время от времени буду отдыхать. Я знаю этот магазин, часто бывал там в лучшие времена, покупал ноты. Что, если попросить у него полкроны? Но это может его смутить; спрошу сразу крону.
Я вошел в магазин и пожелал видеть хозяина; мне указали, куда пройти. В комнате сидел человек, одетый по последней моде, и просматривал бумаги.
Я пролепетал извинение и изложил свое дело. Бедственное положение вынудило меня обратиться к нему… Я очень скоро верну деньги… Как только получу гонорар за статью… Он окажет мне величайшее благодеяние…
Я еще не кончил говорить, как он уже снова склонился над столом и продолжал свое занятие. Когда я умолк, он покосился на меня, качнул своей красивой головой и сказал:
– Нет!
Просто «нет». Без всяких объяснений. Ни единого слова!
Колени у меня дрожали, и я прислонился к маленькому лакированному шкафчику. Я решил попробовать еще раз. Почему именно он пришел мне в голову, ведь я живу так далеко на Ватерланне? В левом боку покалывало, я покрылся испариной.
– Гм… Поверьте, я очень ослабел, – сказал я. – Тяжкая немощь. Но не позднее чем через два дня у меня будет возможность вернуть долг. Не окажете ли мне любезность?
– Милейший, почему вы пришли именно ко мне? – сказал он. – Я вас никогда в глаза не видел, вы для меня человек с улицы. Обратитесь в газету, где вас знают.
– Но я прошу только на один вечер! – сказал я. – Редакция уже закрыта, а я очень голоден.
Он упорно качал головой, все качал головой, даже когда я взялся за дверь.
– Прощайте! – сказал я.
«Это не было наитие свыше, – подумал я и горько улыбнулся. – Уж если на то пошло, с такой высоты я и сам мог бы ниспослать наитие». Я прохожу один квартал за другим, по временам немного отдыхая на ступеньках. Только бы меня не арестовали! Ужас перед темной камерой преследовал меня, не давал мне ни минуты покоя; завидев полицейского, я всякий раз сворачивал в боковую улицу, чтобы избежать встречи с ним.
– Ну, теперь отсчитаем сто шагов, – сказал я, – и снова попытаем счастья! Когда-нибудь да получится…
Это была маленькая лавчонка, в которую я раньше никогда не заходил. За прилавком стоял простой на вид человек, за спиной у него была дверь с фарфоровой вывеской, товар на длинных полках и стеллажах. Я дождался, пока не ушла из лавки последняя покупательница – молодая дама с ямочками на щеках. Какой счастливый был у нее вид! Я не хотел обращать на себя ее внимание и отвернулся.
– Что вам угодно? – спросил приказчик.
– Могу ли я видеть хозяина?
– Нет, он уехал в горы, в Йотунхейм, – ответил он. – А у вас важное дело?
– Мне нужно несколько эре на хлеб, – сказал я с насильственной улыбкой. – Я голоден, и в карманах у меня пусто.
– В таком случае, я не богаче вас, – сказал он и начал раскладывать мотки пряжи.
– Ах, не гоните меня в такую трудную минуту! – сказал я, похолодев. – Поверьте, я умираю с голоду, – вот уже несколько дней у меня крошки во рту не было.
Он молча, с самым серьезным видом, принялся выворачивать свои карманы.
Как, мне не угодно поверить ему на слово?
– Я прошу всего пять эре, – сказал я. – А через два дня вы получите десять.
– Любезный, вы хотите, чтобы я украл деньги из кассы? – сердито спросил он.
– Да, – сказал я. – Возьмите пять эре из кассы.
– Это не в моих правилах, – возразил он и добавил: – Кстати, мне пора закрывать лавку.
Я ушел, истерзанный голодом, сгорая со стыда. Нет, довольно! Это уж слишком. Столько лет я держался, в такие тяжкие часы сохранял достоинство, а теперь вдруг скатился до самого примитивного нищенства. За один день я своим бесстыдством лишил возвышенности все свои мысли, выпачкал душу. Не краснея, я плакался и клянчил деньги у ничтожного лавочника. А к чему это привело? Разве не остался я все равно без куска хлеба? И теперь я стал отвратителен самому себе. Да, необходимо положить этому конец! Как раз сейчас запираются ворота моего дома, и мне нужно поторопиться, если я не хочу провести еще одну ночь в ратуше…
Это придало мне силы; ночевать в ратуше я не хотел. Скорчившись, держась за левый бок, чтобы хоть немного унять колику, я поплелся дальше, не сводя глаз с тротуара, чтобы знакомым, если они попадутся навстречу, не приходилось мне кланяться; я спешил к пожарному депо. Слава Богу, часы на храме Спасителя показывали только семь, и у меня еще оставалось три часа, прежде чем запрут ворота. Напрасно я испугался!
Итак, все испытано, сделано все возможное. «Но какой несчастливый день, с утра до вечера мне ни разу не повезло», – подумал я. Если бы рассказать это кому-нибудь, никто не поверит, а если бы описать, скажут, что все это я выдумал. Ни разу! Стало быть, ничего не попишешь; только ни за что не впадать больше в жалобный тон. Тьфу, это так противно, поверь, – ты внушаешь мне отвращение! Раз нет надежды, значит, нет. Впрочем, нельзя ли украсть на конюшне горсть овса? Эта мысль промелькнула, как лучик, как полоска света, я знал, что конюшня заперта.
Меня это не опечалило, и я медленно поплелся к дому. На счастье, мне только теперь захотелось пить, впервые за целый день, и я искал, где бы напиться. От базара я был слишком далеко, а в частный дом мне заходить не хотелось; пожалуй, я мог бы потерпеть до возвращения домой; на это потребуется с четверть часа. Еще неизвестно, как подействует на меня глоток воды; мой желудок уже ничего не принимал, меня тошнило даже от слюны, которую я глотал.
А пуговицы? Я еще не попытал счастья с пуговицами! Тут я улыбнулся. Может быть, все-таки найдется выход! Еще не все потеряно! Без сомнения, я получу за них десять эре, а завтра раздобуду где-нибудь еще десять, в четверг же мне заплатят за статью. Нужно только собраться с силами, и все наладится! Как я, в самом деле, мог забыть про пуговицы! Я вынул их из кармана и рассматривал на ходу; в глазах у меня мутилось от радости, я плохо видел улицу, по которой шел.
Как хорошо я знал большой подвал, где часто искал спасения в темные вечера, он был мне другом и в то же время высасывал из меня кровь! Все мое имущество постепенно перекочевало туда, все хозяйственные домашние мелочи, все книги до единой. В дни распродажи я ходил туда смотреть и радовался всякий раз, как мне казалось, что книги мои попадают в хорошие руки. Мои часы купил артист Магельсен, и я почти гордился этим; календарь с первым моим стихотворением приобрел один знакомый, а пальто досталось фотографу, который давал его теперь на прокат в своем ателье. Так что все устроилось прилично.
Я вошел, держа пуговицы в руке. Процентщик сидел за своей конторкой и писал.
– Я могу обождать, мне не к спеху, – сказал я, боясь помешать ему и рассердить его своим приходом. Мой голос звучал так глухо, я сам не узнавал его, а сердце стучало, как молот.
Он подошел ко мне с обычной своей улыбкой, положил на стойку обе руки и посмотрел мне в лицо, не говоря ни слова.
– Я тут кое-что принес и хотел бы показать, может быть, они пригодятся… дома они мне только мешают, просто спасения нет… вот эти пуговицы.
– Что же это у вас за пуговицы такие? – И он поглядел на мою ладонь.
– Нельзя ли мне получить за них несколько эре? Сколько вы сами найдете возможным… По вашему усмотрению…
– За пуговицы? – И он изумленно посмотрел на меня. – За эти пуговицы?
– На сигару или хоть сколько-нибудь. Я проходил мимо, вот и зашел…
Старый ростовщик засмеялся и, не говоря ни слова, вернулся к своей конторке. Я стоял на месте. Собственно, я не очень на него рассчитывал, но все же у меня была слабая надежда. И этот его хохот прозвучал, как смертный приговор… А что, если я предложу ему в придачу очки?
– Я готов отдать также очки, это само собой разумеется, – сказал я и снял очки. – Мне всего-то и нужно десять эре или хотя бы пять.
– Вы сами знаете, что я не могу взять ваши очки, – сказал процентщик. – Я вам это уже говорил.
– Но мне нужна почтовая марка, – глухо сказал я. – Я не могу даже отослать письмо, а это необходимо. Дайте мне марку в десять или в пять эре.
– Ступайте отсюда с Богом! – отозвался он и махнул на меня рукой.
«Ну, теперь будь что будет!» – сказал я себе. Я машинально надел очки, взял пуговицы и ушел, пожелав ему спокойной ночи и, как всегда, плотно прикрыв за собою дверь. Теперь уж ничего не поделаешь! На лестничной площадке я остановился и еще раз взглянул на пуговицы.
– Он решительно не хочет их взять! – сказал я. – Хотя пуговицы почти новые. Это для меня загадка.
Пока я стоял в раздумье, мимо меня прошел какой-то человек и стал спускаться вниз, в подвал. Впопыхах он слегка толкнул меня; мы оба извинились, я обернулся и смотрел ему вслед.
– Послушай, это ты? – сказал он вдруг снизу.
Потом он снова поднялся наверх, и я узнал его.
– Господи, какой у тебя вид! – сказал он. – Что ты здесь делаешь?
– Да так, было одно дельце. Но ты, я вижу, идешь туда же.
– Да. А ты что ему носил?
Колени у меня дрожали, я прислонился к стене и показал пуговицы, лежавшие у меня на ладони.
– Что за черт! – воскликнул он. – Нет, это уж слишком!
– До свидания! – сказал я и хотел уйти, так как в груди у меня закипали слезы.
– Нет, подожди! – сказал он.
Но чего мне ждать? Ведь он сам пришел к процентщику, быть может, принес свое обручальное кольцо, несколько дней голодал, задолжал хозяйке.
– Хорошо, – сказал я. – Если ты не долго…
– Ну конечно же, – сказал он, беря меня за руку. – Но, признаться, я не очень тебе верю, дурак ты этакий, так что пойдем-ка лучше вместе.
Я понял, о чем он, и ответил, чувствуя себя несколько оскорбленным:
– Не могу! Я обещал в половине восьмого быть на улице Бернта Анкера, и…
– В половине восьмого, так! Но сейчас-то уже восемь. Видишь, я держу часы в руке, и мне нужно только отнести их в подвал. Ступай за мной, голодный бродяга! Я раздобуду тебе не меньше пяти крон.
И он подтолкнул меня к двери.
Часть третьяЦелая неделя прошла в изобилии и радости.
Я выкарабкался из беды, обедал каждый день, моя бодрость росла, и я придумывал одну затею за другой. Я работал сразу над тремя или четырьмя статьями, отдавая им всякую искру, всякую мысль, какая возникала в моей бедной голове, и мне казалось, что дело у меня идет лучше, чем прежде. Последнюю статью, на которую я потратил столько сил и возлагал столько надежд, редактор уже вернул обратно, и я тотчас же уничтожил ее, взбешенный и оскорбленный, изорвал, не перечитав. Теперь постараюсь устроиться в другую газету, чтобы иметь возможность лавировать. В худшем случае, если и это не поможет, наймусь в матросы: у пристани стоит «Монах», готовый к отплытию, и я, пожалуй, смогу отправиться на нем в Архангельск или куда там он плывет. Так что надежд у меня было хоть отбавляй.
Последнее потрясение не прошло для меня бесследно; начали выпадать волосы, мучительно болела голова, шалили нервы. Днем я писал, обернув руки тряпками, просто потому, что не терпел ощущения на них собственного своего дыхания. Когда Йенс Олай слишком сильно хлопал подо мною дверью конюшни или на заднем дворе начинала лаять собака, меня до мозга костей пронизывало холодом, и это ощущение отдавалось по всему телу. Мое здоровье заметно пошатнулось.
Изо дня в день я напряженно работал, с трудом находил время пообедать и снова принимался писать. Не только мой шаткий письменный столик, но и вся кровать были завалены заметками и исписанными листами, которые я исправлял, переделывал, тут же вставлял в новые статьи, задуманные в тот день, кое-что зачеркивал, неуклюжие места оживлял красочными словами, с большим трудом продвигаясь от фразы к фразе. Как-то вечером одна из статей была наконец готова, и я, счастливый и радостный, сунув ее в карман, отправился к «Командору». Давно пора было снова подумать о деньгах, потому что у меня почти ничего не оставалось.
«Командор» просил подождать всего минутку… Сам он продолжал писать.
Я осмотрел тесное помещение: бюсты, литографии, газетные вырезки, огромная корзина, которая, казалось, могла поглотить человека. Мне стало очень грустно при виде этого чудовищного зева, этой драконовой пасти, вечно раскрытой, вечно готовой глотать отвергнутые работы, разбивать людские надежды.
– Какое у нас сегодня число? – вдруг спрашивает «Командор», не поднимая головы от стола.
– Двадцать восьмое! – отвечаю я, обрадовавшись, что могу оказать ему услугу.
– Двадцать восьмое. – И он продолжает писать. Наконец он запечатывает несколько писем, отправляет в корзину какие-то бумаги и кладет перо. Потом поворачивается в кресле и смотрит на меня. Заметив, что я все еще стою у двери, он полусерьезно-полушутливо делает знак рукою и указывает на стул.
Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, что на мне нет жилета, расстегиваю куртку и достаю рукопись из кармана.
– Это небольшой очерк о Корреджо, – говорю я. – Но к сожалению, это написано не совсем обычным…
Он берет из моей руки листки и начинает просматривать их. Он поворачивается ко мне лицом. Имя этого человека я слышал уже в ранней молодости, и много лет его газета имела на меня огромное влияние, а сам он вблизи оказался вот каким. У него вьющиеся волосы и несколько беспокойные карие глаза; он имеет привычку время от времени негромко сопеть. С виду он кроток, как пастор, этот человек с хлестким пером, которым он умеет бичевать до крови. Когда я смотрю на него, страх и удивление овладевают мною, чуть не плача, я невольно делаю шаг к нему, хочу выразить свою любовь за все, чему я у него научился, хочу попросить у него снисхождения – ведь я всего только жалкий бедняк, которому и без того трудно…
Он смотрит на меня и медленно, в задумчивости кладет рукопись. Чтобы ему легче было мне отказать, я сам протягиваю руку и говорю:
– Это, конечно, вам не подходит?
И улыбаюсь, делая вид, будто отношусь к этому совсем легко.
– Мы можем печатать лишь популярные статьи, – отвечает он. – Вы же знаете наших читателей. Нельзя ли сделать это попроще? Или взять другую тему, более понятную?
Его предупредительность изумляет меня. Я понимаю, что моя статья отвергнута, и все-таки я не мог бы получить более любезного отказа. Чтобы не задерживать его, я торопливо отвечаю:

