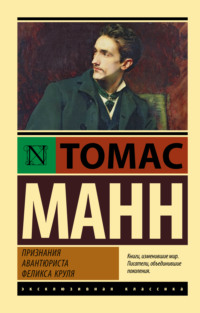
Признания авантюриста Феликса Круля
Я стоял как зачарованный, впивая трепещущей грудью чудесный воздух, в котором запахи шоколада и копченостей мешались с упоительно гнилостным благовонием трюфелей. Сказочные страны и подземные сокровищницы, где счастливчики смело набивают себе карманы и даже сапоги драгоценными камнями, вставали в моем воображении. Сказка это или сон? Удручающая законность и добропорядочность будней вдруг рассеялась, растворилась, исчезли условности и помехи, в обыденной жизни стеной встающие на пути вожделения. Радость от того, что этот изобильный уголок земли сейчас подчинен моей самодержавной власти, охватила меня с такой силой, что я почувствовал зуд во всем теле. С трудом подавил я в себе желанье вскрикнуть от неистового счастья, от наслаждения всей полнотой небывалой свободы.
– Добрый день, – проговорил я в пустоту, и мне еще сейчас слышится сдавленный, неестественно-спокойный звук моего голоса, потерявшийся в тишине.
Никто не ответил. И в это самое мгновенье у меня буквально потекли слюни изо рта. Быстро и бесшумно ступил я к одному из боковых столов, ломившихся от сластей, великолепным жестом запустил руку в ближайшую вазу с конфетами, высыпал всю пригоршню в карман пальто, прошел к двери и через секунду уже скрылся за углом.
Мне, конечно, скажут, что моя проделка – обыкновеннейшее воровство. А я смолчу, постараюсь пропустить это мимо ушей, ведь все равно я не могу помешать воспользоваться этим жалким словом тому, кому приятно его произносить. Но одно – слово, дешевое, истертое, лишь очень приблизительно рисующее жизнь, и совсем другое – живой, непосредственный, вечно юный поступок, блистающий неповторимой, несравненной новизной. Только привычка и леность заставляют нас полагать, что это одно и то же, тогда как на самом деле слово, поскольку оно должно характеризовать поступок, напоминает хлопушку для мух, то есть всегда бьет мимо. Вдобавок, когда речь идет о поступке, существенно не «что» и не «как» (хотя последнее все-таки важней), а «кто».
Что бы я в жизни ни делал, было прежде всего моим поступком, а не поступком некоего имярек, и хотя мне пришлось многое претерпеть и всякая шушера, в том числе блюстители правосудия, именовали мой поступок так же, как и десятки тысяч других, но я, в глубине души неколебимо считая себя любимцем богов, предпочтенной плотью и кровью, внутренне неизменно восставал против такого приравнивания. Да простит мне мой будущий читатель это отступление в область чисто умозрительного, которое, вероятно, не к лицу человеку малообразованному и по роду своих занятий непривычному к размышлениям, тем не менее я почитаю за долг по мере возможности примирить читателя со своеобразием моей жизни, а если это не удастся, то вовремя удержать его от чтения этих листков.
Вернувшись домой, я прошел в пальто к себе в комнату, чтобы выложить на стол и рассмотреть принесенную добычу. Я едва верил, что все это мое. Ведь во сне что только не дается нам в руки, а проснешься – и ничего у тебя нет. И только тот может хоть отчасти разделить со мной мою радость, кто живо себе вообразит, что богатства, дарованные ему в прельстительном сне, при свете утра, весомые, ощутимые, лежат у него на одеяле, словно он позабыл унести их с собою.
Конфеты самых дорогих сортов, с ликером или душистым кремом, были обернуты в цветные станиолевые бумажки, но меня опьянял не их прекрасный вид и вкус, а то, что они представлялись мне драгоценностями из сновидения, которые я спас для действительной жизни; и радость эта была столь глубока, что я, естественно, стал думать, как бы мне при случае вновь испытать ее. Читатель может отнестись к этому факту как ему угодно, – сам я не считал нужным долго над ним размышлять. Дело в том, что в обеденное время гастрономическая лавка иногда оставалась без присмотра – не часто, конечно, не регулярно, но через большие или меньшие промежутки времени это все же бывало, – что я и замечал, проходя с ранцем за плечами мимо застекленной двери. В таких случаях я входил, затворял за собой дверь тихо, осторожно, так что колокольчик не издавал ни звука, хотя язычок и терся об его стенки, на всякий случай говорил «добрый день» и живо брал то, что мне хотелось – немного, скромно: горсть конфет, кусок медовой коврижки, плитку шоколада, – но мало-помалу я перепробовал все. Когда в позднейших частых моих «перевоплощениях» я так же легко и свободно пригоршнями брал сладости жизни, мне казалось, что я снова испытываю то не поддающееся определению чувство, с которым я сроднился в силу своеобразного строя своих мыслей и различных психологических изысканий.
Глава восьмая
Неведомый читатель! Признаюсь, я даже на время отложил перо, чтобы собраться с мыслями, прежде чем вступить в область, которую я уже не раз затрагивал в своих воспоминаниях и на которой, как человек добросовестный, я хочу остановиться несколько подробнее. Спешу предупредить: того, кто ждет от меня фривольного тона и скользких шуток, неизбежно постигнет разочарование. В этих записях я, напротив, стремлюсь сочетать должную искренность с той сдержанной серьезностью, которую диктуют мораль и благоприличие. Ибо я, в противоположность многим, никогда не любил сальностей, более того, из всех видов распущенности распущенность языка мне всегда внушала наибольшее отвращение, так как она не оправдана никакою страстью. Когда человек острит и сквернословит, кажется, что речь идет о чем-то пустом, комическом, тогда как на самом деле мы здесь касаемся важнейшего таинства природы, и говорить о нем наглым, пошлым тоном – значит предавать это таинство глумлению черни. Но возвращаюсь к исповеди!
Прежде всего должен заметить, что известные отношения рано начали играть роль в моей жизни, занимать мои мысли, составлять предмет моих мечтаний и ребяческих игр, – многим раньше, чем я узнал, как это называется и сколь всеобщее значение имеет. Надо также сказать, что картины, рисовавшиеся моему живому воображению, и пронизывающее удовольствие, которое я при этом испытывал, казались мне моей личной, никому другому не понятной особенностью, странностью, о которой я предпочитал не говорить вслух. Не зная, каким словом обозначить этот подъем и сладостное волнение, я придумал для них два наименования: «наилучшее» и «великая радость», – и хранил их как бесценную тайну. В силу такой ревнивой замкнутости, в силу моего одиночества и еще третьего фактора, о нем я скажу ниже, я долгое время оставался в этом состоянии духовной невинности, никак не вязавшейся с живостью моих чувств. Ибо с тех пор как я себя помню, «великая радость» занимала главенствующее положение в моей душевной жизни; более того, она, видимо, пробудилась во мне еще за гранью памяти. Маленькие дети обычно невинны по незнанию; предположение, что они невинны в смысле подлинной чистоты и ангельской святости, – только сентиментальное суеверие, которое развеивается при ближайшем рассмотрении. Мне по крайней мере из достоверного источника (о котором я сейчас скажу подробнее) известно, что еще у груди кормилицы я выказывал недвусмысленные признаки чувства; этот рассказ представляется мне более чем вероятным и весьма характерным для моей энергичной натуры. И правда, моя способность к любовным утехам граничила почти уже с чудом и, как я теперь в этом убеждаюсь, далеко превосходила обычную меру. Основание предполагать это явилось у меня рано, но, для того чтобы предположение переросло в уверенность, понадобилось вмешательство одной особы (она-то и сообщила мне о моем бойком поведении у груди кормилицы), с которой я отроком в продолжение ряда лет состоял в тайных сношениях. Это была горничная по имени Женевьева, поступившая к нам совсем еще девочкой и в пору, когда мне минуло шестнадцать, достигшая уже тридцатилетнего возраста. Дочь фельдфебеля, давно уже помолвленная с начальником маленькой станции между Франкфуртом и Нидерландштейном, она тяготела к светской утонченности и хотя выполняла всякую черную работу, но по виду и манерам являла собой нечто среднее между горничной и наперсницей. Но так как приличное приданое все еще не было сколочено, то ее свадьба все откладывалась в долгий ящик, и Женевьеве, крупной, упитанной блондинке с зелеными тревожными глазами и изящными телодвижениями, необозримо долгая пора ожидания часто не в меру докучала. Проводя лучшие свои годы в воздержании, она не снисходила к домогательствам простолюдинов: солдат, рабочих, мастеровых, которые очень льстились на ее пышную юность. Не причисляя себя к простонародью, она презирала его язык и запах. Иное дело – хозяйский сынок да еще недурной собою и, надо думать, возбуждающий ее женское чувство. Удовлетворение его потребностей, с одной стороны, как бы входило в круг ее домашних обязанностей, с другой же – означало своего рода альянс с высшими классами. Так вот и получилось, что мои желания не встретили серьезного сопротивления.
Я отнюдь не намерен распространяться об эпизоде, слишком обычном, чтобы его подробности могли занять просвещенного читателя. Короче говоря, однажды вечером после ужина, когда крестный Шиммельпристер кончил наряжать меня во всевозможные костюмы, в темном коридорчике мансарды, у дверей моей комнаты, произошла встреча, конечно, не без умысла со стороны Женевьевы, встреча, которая имела продолжение уже в комнате и кончилась полным взаимным обладанием. Помнится, что в тот вечер я был более обыкновенного подавлен прозой жизни, наступившей после маскарада, и погружен в бесконечную печаль и тоску. Будничное платье, которое я натянул на себя после стольких переоблачений, претило мне, я ощущал непреодолимое желанье сорвать его с себя, но на этот раз не только для того, чтобы обрести успокоение во сне. Настоящее успокоение, казалось мне, я найду лишь в объятиях Женевьевы; говоря откровенно, мне даже мерещилось, что полная близость с нею будет своего рода завершением вечернего маскарада, более того, что она и есть истинная цель моих сегодняшних превращений. Как бы там ни было, а изнуряющее, небывалое наслаждение, которое я испытывал у белой, пышной груди Женевьевы, никакому описанию не поддается. Я кричал, мне казалось, что я возношусь на небо. И не своекорыстным было мое сладострастие, оно, как это свойственно моей натуре, распалялось тем больше, чем полнее делила его со мною Женевьева. Всякие сравнения здесь, конечно, немыслимы и неуместны. Но мое убеждение, столь же недоказуемое, сколь и неопровержимое, остается в силе: любовью я наслаждался вдвое острее и жарче, чем другие.
Однако было бы несправедливо полагать, что этот врожденный дар превратил меня в сладострастника, в селадона. Этого не могло случиться хотя бы по той простой причине, что трудная и опасная жизнь, которую я вел, предъявляла немалые требования к моей выдержке, а ее бы у меня, конечно, недостало, если бы я стал размениваться направо и налево. Ибо если для многих это сомнительное времяпрепровождение является, как я заметил, чем-то, что делают походя и после чего можно взять да и отправиться по делам, будто ровно ничего не произошло, то я отдавал ему всего себя, вставал полностью опустошенный и непригодный к какой-либо деятельности.
Я часто распутничал, ибо плоть слаба, а мир был всегда готов любострастно идти мне навстречу. Но, в конечном счете, я, как и подобает мужчине, был настроен серьезно, и из чувственной расслабленности меня вскоре вновь тянуло к напряженной и суровой жизни. Животный акт любви – не является ли он лишь наиболее грубым видом наслаждения тем, что я, исполненный смутных чаяний, когда-то назвал «великой радостью»? Ведь, слишком нас пресыщая, он нас опустошает, и мы перестаем быть любимцами жизни, ибо любви достоин лишь алчущий, а не пресыщенный. Что до меня, то я знаю куда более тонкие, радостные, окрыленные виды удовлетворения страсти, чем этот примитивный акт, в конечном счете являющийся лишь скудной, обманчивой пищей, и я полагаю, что плохо понимает в счастье тот, чьи помыслы направлены только на эту цель. Я всегда стремился к большему, к наиполнейшему и находил изысканную, пряную усладу там, где другие не стали бы даже искать ее. Мои чувства никогда не были направлены на точную, определенную цель, чем, наверно, и объясняется то, что я, несмотря на весь жар вожделения, так долго оставался в наивном неведении, вернее, навеки остался ребенком и мечтателем.
Глава девятая
На этом хватит о материи, трактуя которую я, как мне думается, ни разу не преступил границ благопристойности; пора уже приблизиться к поворотной точке, трагически заключившей мою жизнь в отчем доме. Сначала, правда, надо еще сказать несколько слов о помолвке моей сестры Олимпии с неким Юбелем – секунд-лейтенантом Второго Нассауского пехотного полка № 88, стоявшего в Майнце, – событии, отмеченном весьма торжественно, но так и не возымевшем серьезных последствий. Под натиском обстоятельств эта помолвка была расторгнута, и невеста, после того как все у нас окончательно рухнуло, стала опереточной артисткой. Юбель, болезненный, уже поживший молодой человек, был завсегдатаем наших вечеров. Распаленный танцами, игрой в фанты, вином «Бернкаслер доктор» и прелестями, которые так щедро демонстрировали ему наши дамы, он возгорелся любовью к Олимпии, со страстностью слабогрудого человека стал мечтать об обладании ею и вдобавок, по наивности сильно переоценивая наше материальное благополучие, однажды вечером на коленях, чуть не плача от нетерпения, попросил ее руки. Я и посейчас удивляюсь, как у Олимпии, почти не отвечавшей на его чувства, хватило наглости согласиться на это безумное предложение, – ведь она была многим лучше меня осведомлена о состоянии наших дел. Видимо, ей хотелось вовремя обеспечить себе хотя бы такой ненадежный кров, а может быть, ей внушили, что помолвка с носителем двухцветного мундира укрепит наше положение или по крайней мере отодвинет катастрофу. Мой бедный отец (Олимпия тотчас же к нему побежала), конфузясь, дал свое согласие на этот брак, после чего о событии было объявлено гостям, которые со страшным шумом начали приносить свои поздравления и, как они выражались, щедро «обмывать» помолвку «Лорелеей экстра кюве». Отныне лейтенант Юбель стал ежедневно приезжать к нам из Майнца, хотя долгое пребывание вблизи от предмета его болезненного вожделения шло ему очень и очень во вред. Когда мне случалось войти в комнату, где они сидели вдвоем, лейтенант выглядел совершенно изнуренным и бледным; он бы вконец извелся, если бы, на его счастье, ход дел не принял совсем иного оборота.
Но я снова возвращаюсь к своей особе. Все мои мысли в ту пору были заняты переменой фамилии, предстоявшей моей сестре после вступления в брак; мне живо помнится, что я до недоброжелательства ей завидовал. Подумать только, что она, всю жизнь называвшаяся Олимпией Круль, теперь станет писаться «Олимпия Юбель»! Сколько в этом новизны и прелести! Можно ли себе представить что-нибудь скучнее и утомительнее, чем весь век ставить под письмами и деловыми бумагами одну и ту же подпись? Рука сама отказывается выводить эти докучные буквы. Какое счастье, какой прилив свежих сил – откликаться на новое имя! Возможность хоть раз в жизни переменить имя казалась мне огромнейшим преимуществом слабого пола, – ведь нас, мужчин, закон лишает этой радости. Что до меня, неприспособленного, как большинство людей, вести под защитой буржуазного строя унылую и безопасную жизнь, то я впоследствии проявил немало изобретательности, чтобы обойти запрет, мешавший мне жить и зарабатывать себе на жизнь, и я уже сейчас позволяю себе отослать читателя к тому проникнутому легкой своеобразной прелестью месту моих воспоминаний, где я впервые, как изношенную, пропотевшую одежду, сбрасываю с себя свое родовое имя, чтобы не вовсе самочинно присвоить себе другое, по звучности и аристократизму далеко превосходящее имя лейтенанта Юбеля.
Но в то время как сестра моя была невестой, рок, выражаясь фигурально, костлявым пальцем уже стучался в наши двери. Ехидные слухи о состоянии дел моего бедного отца, распространившиеся в наших краях, недоверчивая сдержанность, с какой к нам стали относиться, беды, которые пророчили нашему не в меру гостеприимному дому, – все это, к величайшему удовлетворению грязных злопыхателей, сбылось, оправдалось и подтвердилось.
Потребитель решительно отвергал наши шипучие вина. Ни сильное удешевление (что, разумеется, мало способствовало повышению их качества), ни сверхсоблазнительные рекламы, которые мой крестный Шиммельпристер, вопреки своему убеждению, из чистой любезности сделал для фирмы, не привлекли симпатий винолюбивого общества к нашему товару. Последнее время заказы уже равнялись нулю; и вот в один из весенних дней, незадолго до моего восемнадцатилетия, на моего бедного отца надвинулась катастрофа.
В том нежном возрасте я ничего не понимал в коммерческих делах, да и позднее моя фантасмагорическая жизнь не давала мне возможности приобрести меркантильные знания. Посему я не буду вдаваться в предмет, мне почти незнакомый, и утруждать читателя профессиональными подробностями краха фабрики шампанских вин. Но о сердечном участии, которое мне в то время внушал мой бедный отец, я все же скажу несколько слов. С каждым днем он все глубже и глубже погружался в меланхолию, выражавшуюся в том, что он целыми днями сидел где-нибудь на стуле у стены со склоненной набок головой, пальцами правой руки неторопливо поглаживая свое брюшко и часто-часто моргая глазами. Иногда он ездил в Майнц, – эти печальные поездки предпринимались, надо думать, в надежде достать денег или сыскать какие-нибудь источники помощи; приезжал он оттуда совершенно подавленный и то и дело вытирал батистовым платочком лоб и глаза. Прежнее благодушие возвращалось к отцу, разве когда он, повязанный салфеткой, с бокалом вина в руке, председательствовал за пиршественным столом, – по вечерам в нашем доме все еще собиралось шумное общество. Но однажды во время такого собрания между моим бедным отцом и евреем-банкиром (супругом обвешанной драгоценностями особы) возникла пренеприятная и достаточно отрезвляющая словесная перепалка. Банкир этот, как я тогда же узнал, был одним из самых отчаянных живодеров, что заманивают в свои сети незадачливых и легкомысленных коммерсантов. Вскоре наступил тот знаменательный, роковой, но для меня все же интересный и бодрящий день, когда фабрика и контора фирмы остались закрытыми, а в нашем доме появилась кучка почтенных господ с холодным взором и поджатыми губами, чтобы описать наше имущество.
На суде мой бедный отец в изысканных выражениях подтвердил свою неплатежеспособность и скрепил бумагу наивно вычурной подписью, которую я умел так мастерски воспроизводить, после чего дело было торжественно передано конкурсному управлению.
В тот день из-за нашего позора, уже известного всему городу, я не пошел в школу, вернее в реальное училище, окончить которое, замечу мимоходом, мне так и не было суждено: во‐первых, потому, что я ни в малейшей мере не скрывал своего отвращения к деспотической тупости, характерной для этого заведения, и, во‐вторых, потому, что подозрительные слухи, а затем и полное крушение нашего торгового дома восстановило против меня весь учительский персонал, более того, преисполнило его ненавистью и презрением ко мне. И на сей раз, после банкротства отца, меня не только не перевели на Пасху в следующий класс, но поставили перед выбором – либо и впредь терпеливо сносить уродливые проявления тирании, в моем возрасте уже нестерпимые, либо уйти из школы и тем самым поставить крест на тех общественных преимуществах, которые дает окончание реального училища. В задорном сознании, что личные мои качества с лихвой возместят мне утрату этих жалких привилегий, я, разумеется, выбрал последнее.
Катастрофа, постигшая нас, была непоправимой, и мне стало очевидно, что мой бедный отец оттягивал ее приближение, все безнадежнее запутываясь в сетях ростовщиков, потому что точно знал – торги сделают нас не только бедняками, но нищими. Все пошло с молотка – складские запасы (впрочем, не знаю, кто согласился дать хоть грош за эту злополучную субстанцию, именовавшуюся шипучим вином); недвижимость, как то: погреба и наш загородный дом, обремененные долгами по закладным, составлявшими более двух третей их стоимости, проценты по которым не платились в течение ряда лет; гномы, грибы и зверюшки из нашего сада, даже стеклянный шар и эолова арфа не избегли этой печальной участи. Дом наш лишился всего своего приветливого изобилия – прялка, пестрые подушки, полированные ларчики и флаконы с благовониями были вынесены на аукцион; конкурсное управление не пощадило даже алебард и веселых занавесей из раскрашенного тростника, и если забавное устройство над входной дверью уцелело в этом разгроме и по-прежнему тоненько выводило «Жизни возрадуйтесь», то только потому, что судейские его не заметили.
Собственно говоря, мой бедный отец не производил впечатления вконец сломленного человека. В нем замечалось даже известное удовлетворение по поводу того, что дела, распутать которые ему не представлялось возможным, теперь находятся в надежных руках, а так как правление банка, в чье владенье перешла наша недвижимость, сердобольно разрешило нам до поры до времени проживать в голых стенах нашего загородного дома, то у отца как-никак была еще и крыша над головой. Легковерный и добродушный по природе, он и других людей не считал за жестокосердных педантов и не думал, что они всерьез его оттолкнут; у него даже достало наивности явиться в местное акционерное общество по выработке шампанских вин и предложить свои услуги в качестве директора. Получив насмешливый отказ, он сделал еще несколько попыток встать на ноги, для чего храбро возобновил свои вечера и фейерверки. Когда и это средство не помогло, отец впал в уныние; а так как он еще полагал, что стоит нам поперек дороги и что без него мы легче пробьемся в жизни, то и решил покончить с собою.
Со времени торгов прошло пять месяцев. Наступила осень. Я уже с Пасхи не посещал школы и радовался временной свободе и переходному своему состоянию без определенных видов на будущее. Мы – моя мать, сестра Олимпия и я – собрались в столовой, единственной еще кое-как обставленной комнате, и довольно долго не приступали к скудной трапезе, дожидаясь главы семейства. Но когда отец не появился и после того, как суп был уже съеден, сестра Олимпия, к которой он питал особую нежность, была послана в кабинет звать его к обеду. Через какие-нибудь три минуты мы вдруг услышали, что она с криком мчится вниз по лестнице, потом опять вверх и зачем-то снова вниз. Я весь похолодел и, готовый к наихудшему, ринулся в комнату отца. Он лежал на полу в расстегнутом сюртуке; одна его рука покоилась на выпуклом животе, а рядом лежал блестящий опасный предмет, из которого он выстрелил в свое чувствительное сердце. Горничная Женевьева и я подняли его и положили на софу. Покуда прислуга бегала за врачом, Олимпия с воплями носилась по дому, а мать не отваживалась выйти из столовой, я стоял, закрыв глаза руками, возле стынущей оболочки моего родителя, щедро воздавая ему дань сыновних слез.
Книга вторая
Глава первая
Долго пролежали эти бумаги в запертом ящике; более года нежелание писать и сомнение в плодотворности задуманного удерживали меня от того, чтобы в строгой последовательности, листок за листком, продолжать свою исповедь. На предыдущих страницах я хоть и неоднократно заверял, что веду свои записи главным образом и прежде всего для собственного развлечения, но так как я и здесь намерен воздать должное правде, то хочу откровенно признаться: садясь за письменный стол, я втихомолку все же помышлял о читателях, и без подкрепляющей меня надежды на их участие и поощрение у меня, наверное, не хватило бы усидчивости довести свою работу хотя бы до нынешней ее стадии. И уж конечно, я не раз задавался вопросом – смогут ли мои правдивые признания, скромно почерпнутые из действительной жизни, соперничать с вымыслом писателей и заслужить благоволение публики, давно пресытившейся пряностями искусства? Одному Богу известно – не раз говорил я себе, – каких очарований и потрясений ждут от книги, которая в силу своего заглавия как бы становится в один ряд с детективными романами, тогда как история моей жизни временами хотя и кажется необычной, даже неправдоподобной, но, конечно же, вовсе не знает ошеломляюще внезапных эффектов и запутанных интригующих положений. От всех этих мыслей мужество едва не оставило меня.
Но сегодня мне случайно попались на глаза уже написанные главы; не без чувства растроганности я сызнова прочитал хронику моего детства и первых отроческих лет; воодушевившись, я опять предался воспоминаниям и, в то время как передо мной оживали наиболее памятные моменты моей биографии, невольно подумал, что подробности, столь живительно действующие на меня, будут небезынтересны и широкому читателю. Стоит мне, например, припомнить, как я в одной из знаменитых столиц империи под именем бельгийского аристократа сижу с сигарой за чашкой кофе в избранном обществе, среди которого находится и начальник полиции, на редкость гуманный сердцевед, и веду беспечный разговор об авантюризме и криминалистике, или же роковой час моего первого ареста, когда один из вошедших ко мне чиновников уголовного розыска, пораженный величием момента и сбитый с толку роскошью моей спальни, постучался в открытую дверь и, старательно вытерев ноги, тихо проговорил: «Прошу прощения за смелость», – за что был вознагражден негодующим взглядом своего толстого начальника, – и я преисполняюсь радостной надежды, что мои признания, пусть уступающие вымыслам романистов в захватывающей интересности, пусть менее полно удовлетворяющие пошлое любопытство публики, тем не менее решительно превзойдут их утонченной проникновенностью и благородной правдивостью. Вот почему я снова возгорелся желанием продолжить и завершить свои записки. Отныне я намерен с еще большим тщанием следить за чистотой стиля и благоприличием оборотов, дабы вышедшее из-под моего пера могло читаться и в самых лучших домах.

