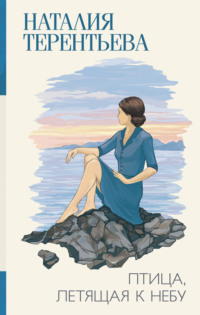
Птица, летящая к небу
Будет сегодня много видео в Сети от учеников нашей школы. Я их не увижу, потому что у меня обычный телефон, без возможности выйти в Интернет. У Вовы – самый современный, а у меня обычный, то есть устаревший, так решили мама с папой на семейном совете, точнее, на семейной ссоре. Папа, естественно, был за меня, а мама – против. Так мне кажется, хотя спорили они не обо мне, а о новом телефоне, который мне нужно подарить, взамен старого Вовиного, который я «донашивала», пока он не сломался. Это был тайный подарок на день рождения, и начали они говорить тихо, но потом стали ссориться, и я слышала всё.
Мама говорила, что я могу «набраться всего» в Интернете. И что там помойка и грязь. Маме это хорошо известно, потому что у нее самой телефон современный, и она любит рассылать родственникам и знакомым «гифки» – анимированные картинки ко всем религиозным праздникам.
Родители спорили и ссорились, победила, понятное дело, мама. И мне купили простой кнопочный телефон, по которому можно звонить.
Сейчас я стояла в стороне и молча смотрела на это веселье. Почему мне не смешно? Ведь смеются все, даже наш пожилой охранник. На хохот вышла повариха из столовой, выглянул из своего кабинета Константин Игоревич, учитель ОБЖ, подтянулись старшеклассники из второй раздевалки и уборщица. Всем смешно, а мне нет. Потому что смеются над моим уродским ботинком? Или еще почему-то? А почему смеются они? Потому что Плужин так оделся и ведет себя как очень странная девушка, у которой явные проблемы не только с ногой, но и с головой?
Если не участвовать в общем веселье, а смотреть со стороны, то люди кажутся очень странными. Это так же, как трезвому смотреть на пьяных.
Я так однажды смотрела: меня первый и последний раз послали в летний лагерь, и там сразу же, на второй день, мальчики купили вино в соседнем поселке, напились и напоили девочек, которые не отказывались, а, наоборот, просили выпить. И потом все, человек десять, пришли в нашу шестиместную комнату и стали танцевать, кого-то тошнило, кто-то из девочек стал раздеваться и показывать мальчикам грудь, а они снимали на телефон и требовали показать еще что-нибудь.
На шум подошел вожатый и выгнал мальчиков, а девочек заставил выпить активированный уголь и снотворное, чтобы они поскорее утихомирились и не орали. Я сидела в углу и смотрела на всё это. А на следующий день попросила маму меня забрать. Мама уговаривала меня остаться, ругала, не хотела ничего слышать. Тогда я сказала, что девочки разрисовали икону из журнала – пририсовали Спасителю усы, клыки, рога. Мама взяла отгул и через два дня примчалась за мной. Мог сразу приехать папа на машине, но мама хотела сама во всем разобраться и убедить «детей» больше так не делать. Мама требовала показать ей этот журнал и рисовальщиков. С большим трудом мне удалось ее отговорить, притворившись, что у меня болит живот от утренних котлет. Мама взвилась – был Троицкий пост – переключилась, и мы уехали. Мне было стыдно, и я себя странно чувствовала. Я победила маму, которую очень трудно убедить и невозможно победить, потому что я умно наврала. Этого в принципе не должно было быть, так всегда говорит сама мама – что ложь обязательно когда-то выйдет наружу. «Сколько веревочке ни виться…» – повторяет она. Но вот прошло два года, и если я сама маме об этом не расскажу, никто не узнает правду. Значит, веревочка эта вьется внутри меня? Иногда тревожа, щекоча, но никто ее не видит. И не увидит, если я не проболтаюсь.
Сейчас в раздевалке я смотрела на то, как хохочут, кривляются, упиваются весельем остальные, и чувствовала себя инопланетянином, который наблюдает за совершенно чуждыми ему живыми особями. Может быть, я сошла с ума? Разучилась смеяться? Ведь не могли все остальные сойти с ума? Что здесь смешного? В моем ортопедическом ботинке? В Плужине с криво накрашенными губами, которому совсем мал мой ботинок, и он его сейчас безжалостно растаптывает? Ботинок, за который мама заплатила, как за новый телефон, в котором есть волшебная возможность выхода в придуманный людьми мир, где сейчас все живут, а меня там нет.
Я встала с банкетки. Вот сейчас я подойду к Плужину, толкну его или дам ему в лоб, он еще не вырос, может, и не вырастет уже, с меня ростом, щуплый. Ноги мои не шли. Не оттого, что у меня одна нога выросла короче другой, а оттого, что я труслива, как последняя овца в стаде. Вот это всё стадо, а я в нем – самая жалкая и трусливая овца, последняя, хромая.
Я сделала шаг вперед. Во рту у меня всё пересохло. Надо на глазах у всех подойти к нему и что-то сказать или что-то сделать. Или не надо. Таисья часто повторяет: «Око за око сделает весь мир слепым». Я ударю Плужина, Плужин ударит меня и еще кого-то, или я не отомщу лично Плужину, но ударю кого-то слабого… Ну, допустим, я никого не ударю. Вообще никого. Никогда. Меня загрызут волки, как обычно в стаде и происходит – загрызают слабейшего. И об этом я тоже знаю, благодаря широкому кругозору Таисьи и ее рассказам о нашей прекрасной планете.
Народу постепенно стало надоедать. Плужин немного растерялся, потому что все расходились, он попробовал выкрикнуть что-то «угарное» с матом, но к нему неожиданно подошел Константин Игоревич и сказал: «Ну, всё, давай!» И подтолкнул его. Плужин нарочно упал, перекатился по полу, задрал ноги, схватился за голову и за бок, заорал, завыл, это на несколько секунд остановило расходившихся зрителей, все сняли себе еще по «истории» – о том, как учитель толкнул ученика и тот ударился головой, и пошли на седьмой урок или домой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов