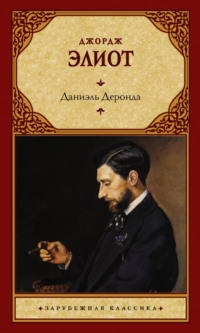
Даниэль Деронда

Джордж Элиот
Даниэль Деронда
© Перевод. Т. Осина, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
* * *Пусть твой главный страх сосредоточится на душе твоей: там, в толпе неуемных желаний, готовых идти к цели по телам павших, прячется месть безосновательная, но непреодолимая, подобно дыханию неминуемой смерти.
А над беспечным роем земных радостей довлеет печальная участь.
Часть первая. Избалованное дитя
Глава I
Была она красива или некрасива? В чем таился секрет живой прелести ее взгляда? Добро или зло сквозило в сияющей улыбке? Возможно, зло, ибо почему вместо спокойного очарования в душе рождалось беспокойство? Почему стремление снова взглянуть на нее ощущалось как насилие, а не как страстное желание, подчиняющее все существо?
Молодая леди, вызвавшая в сознании Даниэля Деронды эти вопросы, глубоко погрузилась в игру, но не на улице, под палящим южным солнцем, в лохмотьях, швыряя медяки на развалины стены, – нет, она играла в одном из великолепных дворцов, воздвигнутых просвещенной эпохой во имя достижения тех же радостей, однако куда более высокой ценой. Золоченые рамы картин, интерьер в темных тонах, пышные обнаженные красавицы на полотнах создавали атмосферу, достойную дыхания высшего общества, какую трудно найти в местах, посещаемых обществом низшим.
Сентябрьский день уже подкрался к четырем часам, так что в зале сгустилась ощутительная для глаза мгла. Глубокая тишина изредка нарушалась глухим стуком, легким звоном, едва слышным шорохом и монотонным бормотанием на французском языке, похожем на звуки, издаваемые искусно сконструированным автоматом. Вокруг двух длинных столов плотно, плечом к плечу, сидели люди. Все они сосредоточили внимание на рулетке. Исключение составлял маленький мальчик в маскарадном костюмчике. Замерев за спиной погруженной в прихоти рулетки дамы, единственный среди присутствующих, он бросал на дверь бессмысленные взгляды причудливо наряженного ребенка, выставленного на подмостки странствующего театра в качестве яркой приманки.
Столы окружали пятьдесят-шестьдесят человек. Многие довольствовались вторым, а то и третьим рядом, некоторые подходили лишь для того, чтобы посмотреть на игру, и только время от времени кто-нибудь из зрителей – как правило, женщина – притворно улыбаясь, выкладывал пять франков, желая понять, что представляет собой азарт. Те, кто предавался страсти более откровенно и не скрывал жадного интереса, представляли весьма далекие друг от друга разнообразные виды европейского типа. Ливонские и испанские, греко-итальянские и смешанно-германские, английские аристократические и английские плебейские черты соседствовали в неоспоримой гармонии. Здесь царил поразительный дух всечеловеческого равенства. Белые, унизанные кольцами пальцы английской графини едва не касались костлявой, желтой, похожей на щупальца краба руки, жадно тянущейся к столу, чтобы схватить стопку монет. Рука эта естественным образом гармонировала с длинным сухим лицом, глубоко посаженными глазами, седыми бровями и не знавшими гребня редкими волосами – лицом, напоминавшим хищную птицу. Где еще ее светлость милостиво согласилась бы сесть рядом с бледной, рано постаревшей, подобно жалкому букетику засохших цветов на шляпке, представительницей женского пола, прижимающей к груди потрепанный бархатный ридикюль и время от времени, прежде чем вытащить карту, слюнявившей палец? В непосредственной близости от прекрасной графини расположился и уважаемый лондонский торговец – блондин с мягкими ладонями и тщательно расчесанными на пробор прилизанными волосами, не забывающий о почтительном отношении к аристократам и мелкопоместным дворянам, чья снисходительная благосклонность позволяла ему отдыхать столь изысканно даже в их утонченной компании. Вовсе не убивающая аппетит страсть к игре, а сытый досуг в перерывах между выгодными сделками и прожиганием денег влек его к рулетке и показным тратам. Он утверждал, что Провидение никогда не проявляет недовольства невинным развлечением и лишь порою равнодушно отворачивается – в тех случаях, когда сладость от значительного выигрыша сменяется горечью большой потери и болезненным созерцанием чужого успеха. Порочным в его глазах считался только тот игрок, который проигрывал. Хотя в манерах этого господина сквозила принадлежность к торговому классу, в развлечениях и удовольствиях он ничем не отличался от владельцев древнейших благородных титулов. Возле его стула стоял красивый итальянец – спокойный, неподвижный словно изваяние. Низко склонившись, он положил на стол первую горсть наполеондоров, вынутых из сумки, только что доставленной слугой с лихо закрученными усами. Уже через полминуты золотые монеты перекочевали к старухе в парике и в очках на длинном носу. Глаза ее едва заметно блеснули, а на тонких губах мелькнула слабая улыбка, однако величавый итальянец сохранил равнодушие и – очевидно, ничуть не сомневаясь в непогрешимости своей системы, позволяющей уверенно держать ногу на шее удачи, – тут же достал следующую горсть. Точно так же поступил господин с внешностью изнуренного щеголя или усталого распутника. Глядя на мир сквозь стекло монокля, он попросил сдачи и протянул дрожащую руку. Отчаянная спонтанность его игры объяснялась, должно быть, верой в чудо или счастливые числа.
И все же, несмотря на очевидное разнообразие игроков, лица их, напоминающие маски, объединяло общее выражение недовольства. Казалось, все они вкусили опасного снадобья, на время омрачившего их сознание.
Взглянув на эту сцену, Деронда подумал, что азартные игры молодых испанских пастухов представлялись куда более достойными зависти: судя по всему, Руссо[1] не ошибся, утверждая, что искусство и наука сослужили человечеству дурную службу. Но вдруг он заметил, что наступил полный драматизма момент. Внимание Даниэля привлекла молодая леди – стоявшая неподалеку, она тем не менее последней попала в его поле зрения. Склонившись, она что-то говорила по-английски сидевшей за столом даме средних лет. Вот она вернулась к игре и выпрямилась, открыв заинтересованному взору высокий грациозный стан, а также лицо если и не заслуживающее безусловного восхищения, то, несомненно, достойное обостренного внимания.
Внутренний спор, вызванный незнакомкой в сознании Деронды, придал его взгляду пытливое выражение, заменившее первоначальное восхищенное поклонение. Вот глаза его последовали за изящным изгибом фигуры и легкими движениями рук: с видом твердой уверенности неведомая сильфида склонилась, чтобы сделать ставку. А уже в следующий миг взгляд Деронды вернулся к лицу, отражавшему абсолютное равнодушие к окружающим и полное погружение в игру. Сильфида выиграла. В то время как тонкие пальчики, элегантно обтянутые светло-серыми перчатками, собирали придвинутые монеты, чтобы вновь пустить их в дело, она посмотрела вокруг с выражением слишком холодным и безразличным, чтобы не заподозрить искусно скрытое ликование.
Однако во время недолгого путешествия по залу взгляд ее наткнулся на взгляд Деронды. И вот, вместо того чтобы тут же потупить взор, как того хотелось, сильфида с недовольством осознала, что продолжает зачарованно смотреть в глубокие темные глаза. Сколько продолжалось наваждение? Внезапно возникло ощущение, что незнакомец оценивает, смотрит высокомерно, словно на существо низшего порядка; что сам он не относит себя к окружающей толпе, а мнит пришельцем из иного, лучшего мира и изучает ее в качестве экземпляра местной фауны. Неприятное впечатление вызвало в душе острое негодование и натянуло тетиву конфликта. Нет, вскипевшая кровь не окрасила щеки румянцем, а, напротив, отхлынула от побелевших губ. Но молодая леди взяла себя в руки и вернулась к игре, не проявив чувств иначе, чем этой внезапной бледностью. Однако взгляд Деронды, кажется, подействовал дурно. Новая ставка провалилась. Ничего страшного; она начала выигрывать, едва подойдя к рулетке с несколькими наполеондорами в руке, и с тех пор успела накопить солидный капитал. Поверила в собственную удачу, а другие поверили в нее; воображение услужливо представило картину всеобщего поклонения богине успеха. Нечто подобное происходило с игроками-мужчинами; так почему бы и женщине не достичь превосходства? Ее подруга и компаньонка, на первых порах не одобрявшая тяги к игре, со временем изменила мнение и ограничилась двумя мудрыми советами: суметь вовремя остановиться и увезти выигранные деньги в Англию. Гвендолин ответила, что ценит азарт, а не выигрыш, поэтому настоящий момент следовало бы считать наивысшей точкой напряжения в игре. И все же, проиграв следующую ставку, она с трудом подавила подступившие слезы и, даже не оборачиваясь, ощутила мучительную тяжесть неподвижно устремленного на нее взгляда – убедительный повод сдержать чувства и невозмутимо продолжить игру – так, как будто победа и поражение не имели ни малейшего значения. Подруга осторожно коснулась ее локтя и предложила покинуть стол. В ответ Гвендолин выложила десять наполеондоров: ею овладел дух противоречия – когда сознание теряет из вида все, кроме яростного сопротивления, и с легкомысленной глупостью неудержимого порыва вызывает на бой саму удачу. Если не удается блестяще выиграть, значит, следует блестяще проиграть. Гвендолин прекрасно владела собственной мимикой и жестами, а потому не позволила дрогнуть ни губам, ни рукам. Как только ставка проваливалась, она тут же ее удваивала. Теперь уже на нее смотрели все собравшиеся вокруг стола, однако Гвендолин остро ощущала лишь один-единственный взгляд. Ни разу не посмотрев в сторону Деронды, она не сомневалась, что он стоит на прежнем месте. Подобная драма заканчивается скоро: стремительное развитие событий и развязка занимают лишь пару мгновений.
– Делайте ставки, дамы и господа, – донесся неумолимый глас судьбы из затерянных между усами и эспаньолкой уст крупье, и Гвендолин положила на стол последнюю жалкую кучку наполеондоров.
– Ваша ставка бита, – провозгласила судьба.
Гвендолин отвернулась от стола и в упор посмотрела на Деронду. Их взгляды встретились; в его глазах застыла ироническая усмешка: все лучше, чем отмахнуться как от недостойного внимания насекомого. К тому же, несмотря на высокомерную усмешку, трудно было представить, что он не восхищен как силой ее духа, так и внешностью. Молодой, стройный, красивый, ничем не напоминающий тех убогих филистеров, которые, проходя мимо игрового стола, считают своим долгом уничтожить всех сидящих полным презрения взглядом. Твердая убежденность в собственной безупречности отказывается пасовать перед внезапным провалом. Скорее, если кто-то из многочисленных детей Тщеславия – будь то мужчина или женщина – сталкивается с неожиданно холодным приемом, то свято верит, что стоит лишь немного постараться, и странное неприятие уступит место обычному поклонению. В понятии Гвендолин само собой разумелось, что она знает, чем следует восхищаться, и что сама заслуживает всеобщего восхищения. Эта основа ее мировосприятия теперь испытала серьезный удар и слегка пошатнулась, однако устояла: уничтожить ее оказалось нелегко.
Вечером та же комната, жарко натопленная, блистала огнями газовых ламп и нарядами дам, которые свободно прогуливались, увлекая за собой шлейфы, или отдыхали, сидя на оттоманках.
Гвендолин Харлет предстала в образе Нереиды – в расшитом серебром платье цвета морской волны, с изумрудным пером и серебристой вуалью на зеленой шляпке, оттеняющей золотисто-каштановые волосы. Она шествовала под крылом, а точнее, возвышалась над плечом, той самой леди, которая сидела рядом с ней за рулеткой. Дам сопровождал джентльмен с седыми усами, коротко остриженными волосами и густыми сросшимися бровями – по-немецки подтянутый и чопорный. Все трое неторопливо прогуливались по комнате, иногда останавливаясь, чтобы побеседовать со знакомыми, в то время как все собравшиеся не сводили с Гвендолин внимательных взоров.
– Поразительная девушка эта мисс Харлет. Чего не скажешь о других.
– Да. Вообразила себя змеей: вся в зеленом и серебристом, да и шею изгибает больше, чем нужно.
– О, она все время ведет себя экстравагантно. Полагаю, так уж устроена. Находите ее хорошенькой, мистер Вандернодт?
– Очень. За такой не грех и приударить. Конечно, если ты глуп.
– Значит, курносый нос и узкие длинные глаза в вашем вкусе?
– В том случае, если они составляют подобный ансамбль.
– Змеиный ансамбль?
– Если угодно. Как известно, змей искусил женщину; почему не мужчину?
– Она, несомненно, наделена грацией. Однако щеки слишком бледны. Красота ведьмы.
– Напротив. На мой взгляд, цвет лица – одно из ее главных достоинств. Эта нежная бледность выглядит абсолютно здоровой. Маленький, слегка вздернутый носик просто очарователен. А рот! Доводилось ли вам когда-нибудь видеть столь изящный изгиб губ, Макворт?
– Вот еще! Терпеть не могу этот рот. Самодовольный, как будто сознает собственную красоту. Линия губ слишком спокойна и постоянна. В моем вкусе трепетный, подвижный рот.
– Что касается меня, то я нахожу ее поистине отвратительной, – вынес вердикт вдовец. – Удивительно, но в моду входят неприятные девушки. А кто эти Лангены? Кто-нибудь их знает?
– Вполне приличные люди. Я несколько раз обедал с ними в «Русси». Баронесса фон Ланген – англичанка. Мисс Харлет называет ее кузиной. Сама же девушка прекрасно воспитана и необыкновенно умна.
– Подумать только! А барон?
– Представляет собой лишь весьма респектабельный фон.
– Ваша баронесса не отходит от рулетки, – заметил Макворт. – Полагаю, она и научила спутницу играть.
– О, старушка ставит крайне осторожно: десять франков здесь, десять там – не больше. Молодая леди действует куда смелее. Но это не больше чем каприз, причуда.
– Слышал, сегодня она спустила все, что выиграла раньше. Кто знает: они богаты?
– Вот именно: кто знает? Разве это о ком-нибудь известно? – отозвался мистер Вандернодт, отходя, чтобы присоединиться к Лангенам.
Наблюдение, что этим вечером Гвендолин больше обычного выгибала шею, вполне соответствовало действительности, но вовсе не потому, что стремилась убедительно воплотить образ змеи: она всего лишь искала глазами Деронду, чтобы навести справки о незнакомце, чей оценивающий взор до сих пор болезненно ощущала. Наконец возможность представилась.
– Мистер Вандернодт, вы знаете всех и каждого, – проговорила Гвендолин томно, с ленивой медлительностью. – Кто это стоит возле двери?
– Там собралось с полдюжины джентльменов. Вас интересует престарелый Адонис в парике времен Георга Четвертого?
– Нет-нет. Темноволосый молодой человек справа, с ужасным выражением лица.
– Вам он кажется ужасным? А по-моему, напротив, необыкновенно красив.
– Но кто же это?
– Недавно остановился в нашем отеле вместе с сэром Хьюго Мэллинджером.
– С сэром Хьюго Мэллинджером?
– Да. Знаете его?
– Нет. – Гвендолин слегка покраснела. – Он владеет поместьем неподалеку от нас, но никогда там не бывает. Как, вы сказали, зовут того джентльмена возле двери?
– Деронда. Мистер Деронда.
– Что за восхитительное имя! Он англичанин?
– Да. Говорят, он близкий родственник баронета. Интересуетесь?
– Немного. По-моему, он совсем не похож на обычных молодых людей.
– Обычные молодые люди вам не нравятся?
– Ничуть. Всегда заранее знаю, что они скажут. А вот что скажет мистер Деронда, ума не приложу. Что он обычно говорит?
– Как правило, ничего. Вчера я битый час просидел на террасе в одной с ним компании, и он не проронил ни слова. Даже не курил. Казалось, скучал.
– Еще один повод познакомиться. Мне тоже всегда скучно.
– Полагаю, он будет счастлив представиться вам. Прикажете привести его сейчас же? Баронесса, вы позволите?
– Почему нет? Поскольку он родственник сэра Хьюго Мэллинджера. Постоянно скучать – твоя новая роль, Гвендолин, – продолжила мадам фон Ланген, как только мистер Вандернодт удалился. – До сих пор ты с утра до ночи чем-то увлеченно занималась.
– Только потому, что я постоянно до смерти скучаю. Если вдруг дел не найдется, придется сломать руку или ключицу. Что-то обязательно должно происходить; конечно, если в ближайшее время вы не отправитесь в Швейцарию и не позволите мне забраться на Маттерхорн.
– Может быть, знакомство с мистером Дерондой заменит Маттерхорн?
– Не исключено.
Однако на сей раз Гвендолин так и не познакомилась с Дерондой. Этим вечером мистеру Вандернодту не удалось его представить, а вернувшись в свою комнату, она обнаружила письмо, требовавшее ее срочного возвращения домой.
Глава II
Вот какое письмо Гвендолин обнаружила на столе:
«Дражайшее дитя! Вот уже неделю я жду от тебя известий. В последнем письме ты сообщила, что Лангены намерены покинуть Лебронн и переехать в Баден. Разве можно вести себя настолько беспечно, чтобы даже не сообщить свой новый адрес? Я отчаянно тревожусь: вдруг это письмо не дойдет? В любом случае ты должна была вернуться домой в конце сентября. Сейчас я вынуждена умолять приехать как можно быстрее, ведь если ты истратишь все деньги, прислать еще будет не в моих силах. Занимать у Лангенов ни в коем случае нельзя, так как отдать долг я не смогу. Такова горькая правда, дитя мое. Хотелось бы лучше тебя подготовить, но не получилось: нас постигло ужасное бедствие. Ты не разбираешься в бизнесе и не поймешь тонкостей, но суть заключается в том, что фирма «Грапнелл и компания» потеряла миллион фунтов. Мы с твоей тетушкой Гаскойн абсолютно разорены; твой дядюшка имеет только приход, так что, продав экипаж и поместив куда-нибудь мальчиков, семья сможет кое-как свести концы с концами. Все состояние, доставшееся от нашего бедного отца, идет на погашение задолженности. У меня ничего не осталось. Лучше, чтобы ты узнала все и сразу, хотя сердце разрывается от боли. Конечно, мы не можем не сожалеть, что ты уехала именно в это время. Но поверь, дорогое дитя: от меня ты не услышишь ни слова упрека. Если бы могла, я оградила бы тебя от всех неприятностей. По пути домой у тебя хватит времени подготовиться к предстоящим переменам. Возможно, мы сразу покинем Оффендин, поскольку надеемся, что мистер Хейнс, который и прежде проявлял интерес к поместью, не замедлит воспользоваться случаем. Разумеется, в дом священника переехать не удастся: там не найдется для нас угла. Придется поискать какую-нибудь хижину, чтобы не оказаться на улице, и до тех пор, пока я не придумаю, что делать дальше, жить на подаяния твоего дяди Гаскойна. Расплатиться с торговцами мне нечем, ведь надо еще выдать жалованье слугам. Мужайся, дорогое дитя; нам предстоит положиться на волю Божью. Однако нелегко смириться с безнравственным легкомыслием мистера Лассмана, из-за которого, говорят, и случилась катастрофа. Твои бедные сестры только плачут вместе со мной, не в силах ничем помочь. Если бы ты оказалась рядом, луч солнца пробился бы сквозь тучи: я никогда не поверю, что ты создана для бедности. Если Лангены захотят остаться за границей, может быть, тебе удастся найти другое сопровождение. Только как можно скорее возвращайся к своей страдающей и любящей мамочке.
Фанни Дэвилоу».В первое мгновение письмо оглушило и ошеломило Гвендолин. Безоговорочная уверенность в собственной легкой, гладкой, роскошной судьбе, где любые случайно возникшие неприятности устраняются сами собой, владела ее сознанием еще более властно, чем маминым, подкрепляясь жаром молодости и вошедшим в плоть и кровь чувством собственного превосходства. Внезапно поверить в грядущую бедность и унизительную зависимость ей было столь же трудно, как допустить в бурный поток цветущей жизни ледяной ручей осознания неминуемой смерти. Несколько минут Гвендолин стояла неподвижно, а потом сорвала с головы шляпу и машинально посмотрела в зеркало. Локоны гладких светло-каштановых волос сохранились в безупречном, достойном бального зала порядке. Прежде она бы долго и с удовольствием созерцала собственное отражение (вполне позволительная слабость), однако сейчас, даже не заметив достойной восхищения красоты, смотрела в пространство, словно только что услышала отвратительный звук и теперь дожидалась сигнала, чтобы понять источник его происхождения. Наконец, словно очнувшись, Гвендолин забилась в угол красного бархатного дивана, снова взяла письмо, дважды внимательно прочитала, бросила на пол, сжала руки на коленях и застыла, не проронив ни слезинки. Хотелось обдумать ситуацию и найти выход, а не оплакивать собственную горькую долю. В душе не прозвучал возглас «бедная мама!», ибо мама никогда не получала от жизни настоящей радости. Если бы в эту минуту Гвендолин могла кого-то пожалеть, то в первую очередь пожалела бы себя: разве не она естественно и заслуженно представляла главный объект маминой тревоги? Но душой овладели гнев и разочарование: надо же было так бездарно, за один вечер, потерять все, что удалось выиграть в рулетку! Еще немного удачи, и можно было бы привезти домой весьма значительную сумму или снова испытать судьбу и приобрести капитал, способный поддержать семью. Но разве сейчас это невозможно? В ридикюле оставалось всего четыре наполеондора, но ведь можно продать кое-какие украшения: на курортах Германии подобная практика настолько распространена, что стыдиться абсолютно нечего. Даже не получив маминого письма, Гвендолин скорее всего решила бы выручить некую сумму за этрусское ожерелье, которое со дня приезда так ни разу и не надела. Более того, она сделала бы это, с удовлетворением осознавая, что живет ярко, энергично и совсем не скучно. Имея в распоряжении десять наполеондоров и заручившись прежней удачей, что вполне возможно, почему бы не поиграть еще несколько дней? Даже если дома друзья осудят способ получения денег, что непременно произойдет, сами-то деньги никуда не денутся. Богатое воображение оценило план и сформулировало благоприятные последствия, однако без нерушимой уверенности и стремительно растущей эйфории, характерной для болезненной игровой зависимости. Гвендолин обратилась к рулетке не по зову страсти, а по осмысленному выбору. Сознание здраво оценивало возможности: в то время как шанс выигрыша привлекал, шанс потери маячил с равным упорством, пугая жестоким унижением. Она твердо решила не говорить Лангенам о постигшем семью несчастье, чтобы не обременять напрасным сочувствием ни их, ни себя. Если придется расстаться со значительным количеством драгоценностей и отсутствие их станет заметным, непременно последуют расспросы и увещевания. Самый спокойный, лишенный риска и неизбежных трудностей путь – это завтра же рано утром продать ожерелье, без объяснений сообщить Лангенам, что мама просит срочно вернуться домой, и вечерним поездом уехать в Брюссель. Поскольку горничной Гвендолин не держала и путешествовать собиралась в одиночестве, следовало ожидать резких возражений, однако ее решимость была непреклонна.
Вместо того чтобы лечь спать, она зажгла все свечи и начала складывать вещи, лихорадочно думая о том, что может произойти на следующий день: утомительное объяснение и прощание, а затем преждевременное и нежелательное возвращение домой, где жизнь стала иной, или альтернатива в виде дерзкой попытки задержаться еще на день и снова испытать счастье в рулетку. Однако игра в рулетку омрачалась присутствием Деронды, чей ироничный взгляд, казалось, неминуемо ведет к проигрышу. Этот назойливый образ решительно склонял к немедленному отъезду и заставлял довести сборы до такой стадии, когда перемена планов оказалась бы затруднительной. Когда последние вещи были упакованы, сквозь белые шторы уже пробивалась слабая заря. Стоило ли ложиться спать, когда наступило утро? Холодная ванна в достаточной степени освежила, а легкие тени усталости под глазами лишь придали лицу интересную таинственность. К шести часам мисс Харлет предстала в полном дорожном облачении: в сером костюме и даже в фетровой шляпке, – решив, что выйдет на улицу в тот час, когда другие леди отправятся к целебным источникам. Присев и облокотившись на спинку стула, словно позируя для портрета, она взглянула на себя в зеркало. Можно пылко любить собственную персону, испытывая при этом не самодовольство, а недовольство собой – чувство более сильное, ибо все движения души подчиняются эгоистичному самолюбию. Впрочем, Гвендолин понятия не имела о подобном внутреннем соперничестве, а наивно восторгалась очаровательным образом. Все, кроме самых суровых праведников, конечно, снисходительно отнесутся к девушке, изо дня в день встречавшей объективное отражение своей красоты как в лести подруг, так и в каждом встречном зеркале. И даже сейчас, на пороге серьезных неприятностей, когда за неимением других дел она сидела, глядя на себя в растущем дневном свете, выражение счастливого довольства на лице расцветало и укреплялось вместе с жизнерадостным сиянием утра. Улыбка на прекрасных губах с каждым мгновением становилась все увереннее, пока, наконец, Гвендолин не сняла шляпу и не склонилась, чтобы поцеловать холодное, но излучавшее скрытое тепло зеркало. Разве можно верить в несчастье? Если несчастье придет, ей достанет сил оттолкнуть его, победить или хотя бы спастись бегством, как уже случалось. Любой выход казался более вероятным, чем пассивная покорность страданию, большому или малому.