
Иуда Искариот
– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.
– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.
– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.
Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:
– Злой… Злой мальчик.
В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.
– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.
Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того как он женился сам, Сашка не мог простить измены.
– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?
– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».
– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.
– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.
– Так куда же?
Сашка не знал, куда он хочет.
– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.
Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.
– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.
Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.
– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.
Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:
– Дети, идите! Тише, тише!
Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.
Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:
– Милый… милый ангелочек!
И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.
– Милый… милый! – шептал Сашка.
Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама со светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.
– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те… Тетечка.
Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.
– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.
– Те… тетечка. Дай мне одну штуку с елки, – ангелочка.
– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.
Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.
– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.
Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.
– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.
Сашка грубо сказал:
– Дай ангелочка.
– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?
Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.
– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?
Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:
– Дай ангелочка!
Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:
– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.
«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.
Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.
– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.
Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.
– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!
Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.
– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.
– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.
Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.
– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.
IIIМать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.
– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.
Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.
– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.
Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.
Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.
– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!
Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:
– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!
На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.
И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка.
И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.
Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.
– Это она дала тебе? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.
В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.
– А то кто же? Конечно, она.
Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.
– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.
– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.
– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву…
Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.
– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?
– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.
– Не буду… не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж… зачем?
Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи… держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.
– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.
– Не к чему. Скоро встану.
Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.
А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.
В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.
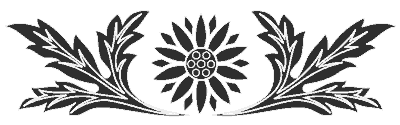
Что видела галка
Из рождественских мотивовНад бесконечной снежною равниною, тяжело взмывая усталыми крыльями, летела галка. Над нею уходило вверх зеленовато-бледное небо, с одной стороны сливавшееся в дымчатой мгле с землею. С другой стороны, той, где только что зашло солнце, замирали последние отблески заката, галке был еще виден багряно-красный, матовый шар опускавшегося солнца, но внизу уже густел мрак зимней, долгой ночи. Куда только хватал глаз, – серело поле, окованное крепким, жгучим морозом. Неподвижная тишина резкого воздуха слабо нарушалась, гоня холодные волны взмахами усталых крыльев, несших галку к одному, только ей видимому лесу, где она решила сегодня переночевать. Зажглись уже звезды, и ночной мрак окутал холодным саваном замерзшую землю, когда галка достигла уже густого леса, смутно черневшего на белой поляне. Слышно было вверху, как от мороза потрескивали деревья, распластавшие свои ветви, отягченные сыпучим, мелким снегом. Захрустели сучки под осторожною ногою какого-то лесного зверя, выходившего на добычу. Из темной дали донеслись до галки унылые, жуткие звуки волчьего воя, протяжного, дикого. Крутым поворотом галка изменила направление полета, напрягая последние силы, понеслась туда, где, она чувствовала, находится проезжая дорога.
Она любила человеческое общество, и лесная глушь была ей неприятна.
Вот и дорога. Ее можно узнать по темным, душистым кучкам лошадиного помета, которым галка не преминула бы воспользоваться, если бы ей не хотелось так сильно спать. Невдалеке чернелись перила моста над глубоким, но теперь невидимым оврагом. Галке овраг этот был знаком по тому горькому разочарованию, которое он ей доставил. Не более как год тому назад, в эту же самую пору, ей удалось выклевать глаза, поразительно вкусные глаза, у какого-то молодого черноусого молодца. Несмотря на холод, он, догола раздетый, спокойно лежал на крепком, подмерзшем снегу. Из разбитой головы еще сочилась густая, красная кровь. Только слегка шевельнувшийся мизинец показал галке, что она несвоевременно принялась за работу и клюет зрячие глаза, – но подобные пустяки не могли смутить птицу, привыкшую к человеческому обществу. На другой день она, пригласив несколько знакомых галок, вернулась, чтобы поосновательнее перекусить, и каково же было негодование ее и ее подруг, когда, вместо подмерзшего трупа, они нашли только темное пятно крови да массу волчьих следов. Эти господа не постеснялись разорвать на части галкину собственность, а какой-то запоздавший неудачник пытался, по-видимому, есть даже снег, пропитанный кровью. Только в бурной и крикливой манифестации могла галка выразить свою обиду и дать некоторое духовное удовлетворение пустому желудку.
Выбрав дерево поудобнее, галка комфортабельно уселась на тонкой ветке, согнувшейся под ее тяжестью и осыпавшей мелкий, сухой снег. Каркнув, чтобы прочистить застуженное горло, и сжавшись в комок, так, что галкин приятель, мороз, только руками развел, не видя возможности хоть где-нибудь найти незащищенное место, она сладко закрыла сперва один, а потом другой черный глаз и тотчас же заснула.
Много ли, мало ли прошло времени, галка, по отсутствию часов, установить не могла, но факт тот, что она проснулась, совсем еще не выспавшись, и потому недовольная. Разбудило ее ощущение человеческой близости. Около моста серели две закутанные фигуры. Любопытная, как все женщины, галка перелетела на ближайшее дерево и услыхала разговор.
– Ну кого в эту ночь понесет нелегкая? – сказал сквозь зубы один, тот, что повыше, выпуская тучу пара сквозь заиндевевшие усы и бороду. – Ну и морозище!
– Погодим полчасика, – ответил другой, похлопывая руками.
Сгорбившись, обе закутанные фигуры скрылись под мостом. Галке так же легко заснуть, как и проснуться. Разочарованная, она заснула, когда какой-то звук снова разбудил ее. За поворотом дороги слышался скрип полозьев по твердому снегу накатанной дороги. Показались небольшие сани. Пузатая малорослая лошаденка бойко перебирала озябшими ногами. На козлах, понурившись, сидел человек; в санях виднелось что-то темное, тоже вроде человека…
– Стой!
На дорогу быстро выскочили те две фигуры, что сидели, спрятавшись, под мостом. Заинтересованная галка, тихонько каркнув про себя от удовольствия, обратилась в слух. Лошаденка остановилась. Кучер что-то сказал человеку, сидевшему в санях, и тот привстал. Воротник шубы скрывал его лицо и голову. Один из первых знакомых галки взял лошадь под уздцы, а другой, тот, что был повыше ростом, крикнул: «Стой!» И подошел к саням. В опущенной руке он держал что-то тяжелое.
– Здоровье вашей милости! – грубо сказал он. – Нуте-ка, вылезайте из саночек – приехали!
– Душегуб, разбойник, – глухо донеслось из-за воротника шубы: – Что хочешь ты делать?
– А там увидишь.
– Слышь, милый человек, не тронь, – сказал сидевший на облучке. – Пра, не стоит.
– Молчи, пока жив! – прикрикнул высокий, сурово метнув черными глазами. – Вон из саней!
– Слышь, милый человек…
Высокий взмахнул чем-то бывшим в руке и блеснувшим при слабом мерцании звезд. Тот кубарем слетел с облучка и, видя, что поднятый топор не опускается, прошептал про себя: «Ишь, какой сердитый, тетка твоя малина!» Сидевший в санях тоже вылез и, нагнувшись, развертывал что-то стоявшее на сиденье. Взяв затем развернутый предмет в руку и держа его перед собою, он медленно направился к высокому, с нетерпением ожидавшему окончания сборов.
Никогда галке ни прежде, ни после не приходилось так удивляться! Как будто перед каким-то призраком, высокий начал отступать перед шедшим на него длинноволосым человеком. Допятился он до товарища, который, увидев то, что держал перед собою длинноволосый человек и что блестело от невидимо откуда исходившего света, отпустил лошадь и также начал отступать. Так двигались они: длинноволосый и перед ним два разбойника. Вот один из них нерешительно поднял руку, снял шапку; другой быстрым движением скинул свою. Длинноволосый остановился, остановились и они.
Сидевший раньше на облучке поднял топор и сказал:
– Говорил тебе, не тронь. Видишь, попа везу. Эх ты, ворона!
Галка оскорбленно каркнула, но ни ее, ни говорившего не слыхали те, что стояли друг перед другом.
– Ныне Христос родился, а что вы делаете, душегубы, разбойники! – произнес тихий, старческий голос.
Молчание.
– Я, недостойный служитель Бога, святые дары везу к умирающему. И вы будете умирать, к кому вы на суд пойдете?
Молчание, только хрустнула ветка под шевельнувшейся галкой.
– Любить друг друга заповедал Христос, а что вы делаете? Христианскую кровь проливаете, души свои губите. Убиенные войдут в Царствие Небесное, а вы?
Колена высокого подогнулись, и он упал ниц. Быстро последовал за ним и товарищ. Так лежали они в снегу, не чувствуя, как коченеют их пальцы, а над ними звучал тихий, старческий голос:
– Не мне поклонитесь, а Ему милосердному, который меня послал к вам навстречу. Он, человеколюбец, простил душегубца и татя.
– Батя, прости, – прошептал высокий.
– Прости, батя, не будем, ей-богу, больше не будем, – присоединился второй, поднимая голову.
Священник молча повернулся и пошел к саням.
Галка не хотела признаваться самой себе, что она лично заинтересована в исходе дела. Неодобрительно каркая, она думала, что стоит лишь на страже интересов сословия. Действительно, хорошо будет житься галкам, если люди будут деликатничать друг с другом! Иронически встопорщив перья, галка сделала вид, что не смотрит на дорогу, но тотчас же обошла закон и скосила глаза на нарушителей междуживотного права.

