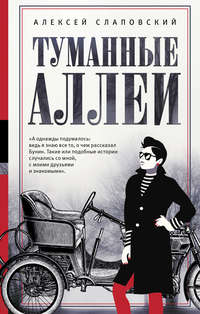
Туманные аллеи
– Да просто, мама. Тебе никто не нужен, вот и все.
– Откуда ты знаешь? Главное – зачем нищету плодить? Тебе известно, сколько я в своей поликлинике получаю, у нас всю жизнь концы с концами еле сходятся. Я себе во всем отказываю, а тебя изо всех сил на уровне держу, ведь так? Одни джинсы у тебя полторы моих зарплаты стоят! А когда ты сама начнешь зарабатывать, неизвестно, если вообще начнешь. В общем, без обсуждений, аборт – или, как бог свят, прогоню.
– А разве не грех – аборт делать?
– Была бы ты верующая, тогда грех, а раз нет, то все равно. На себя возьму, отмолю. Подумай, без денег, без квартиры, с ребенком – как будешь жить? Только не говори, что побежишь к тому, кто тебе брюхо набил, ты ни слова про него не сказала, значит – кто-то случайный. Есть возражения?
У Даши возражений не было. Дело не в том, что она боялась остаться без денег и квартиры, хотя и в этом тоже, просто история с Васей показалась ей исчерпанной, ребенок был бы лишней добавкой, она никак его в себе не чувствовала, не могла полюбить его заранее, а ей казалось, что это необходимо. И никто не подсказал ей, что заранее никого полюбить нельзя.
И пошла на аборт. Делал его знакомый матери, хороший врач, но не повезло, началось заражение крови, дошло до реанимации, Даша вылежала в больнице почти месяц.
Через три года, когда вышла замуж, узнала, что не может иметь детей. Развелись с мужем – и из-за этого, и из-за несходства характеров.
Потом Даша работала художником-оформителем при Дворце культуры, потом взяли в издательство, там познакомилась с местным писателем-садоводом, сочинявшим поэтичные рассказы о природе в промежутках между запоями, Даша тоже стала крепко выпивать вместе с ним, он в пьяном виде ввязался в драку и умер от побоев, Даша лечилась, замуж больше не выходила, схоронила маму, сменила несколько мест работы, не будучи востребованной как художница, да и самой уже не хотелось этим заниматься, в девяностые годы ей было очень трудно, иногда просто голодала, в новом веке оказалось не намного легче, она бралась за все, что предложат, – и торговала на вещевом рынке от хозяина, и сортировщицей была в овощехранилище, и уборщицей в трамвайном депо, наконец дождалась пенсии, оказавшейся мизерной, поэтому в свои шестьдесят два соглашается на любую подработку; у них образовалось что-то вроде бригады веселых старушек, как назвала ее самая взрослая из них, семидесятидвухлетняя бодрая Ангелина.
И вот вчера Ангелина позвонила, спросила:
– Окна мыть пойдешь?
– Где, что за окна?
– Особняк какого-то олигарха, три этажа, по десять окон на каждом. Работы дня на два, не меньше. Аня согласилась, но вдвоем долго возиться будем, пойдешь?
– Пойду.
Оказалось, что дом новый, только что построенный, и окна надо не просто мыть, а очищать от краски, засохшего цемента и каких-то неведомых современных то ли клеев, то ли герметиков, которые пришлось оттирать едкими растворителями. Запах, конечно, был тот еще.
Из-за этого запаха и вышел скандал. Усердно работая, Даша услышала, как в соседней комнате мужской голос громко возмущается:
– Вы бы еще бензином окна промыли! Запах не выветрится, а у меня ребенок маленький, между прочим! Вы кто вообще, откуда? Фирма обещала нормальную бригаду прислать, а не пенсионерок!
Ангелина негромко оправдывалась. Мужчина вошел в комнату, где работала Даша, продолжая кричать:
– И пол заляпали весь мне, а это, вашу мать, дубовый паркет, чтоб вы знали! Тонированный, а вы всю тонировку испортите!
И еще что-то орал, распаляя себя, все чаще добавляя в гневную речь матерные выражения, при этом чувствовалось, что они для него привычны, вылетают легко, без стеснения.
Даша, как всегда в подобных случаях, почувствовала, что кровь приливает к вискам и начинают подрагивать губы. Хотела промолчать, но не выдержала, повернулась:
– Вы могли бы то же самое сказать, но без ора и без нецензурщины?
– А как с вами еще?! Никто, б…, работать не умеет! Никто в стране вообще!
Он был приземист, обширен и в плечах, и в животе, очень короткая седая стрижка с гладкой проплешиной в центре, хорошо видной Даше сверху, глаза-щелочки, щеки дрожат, голос тонкий, сварливый и капризный, и все же она его узнала.
– Вася? Чернышевский?
– А в чем дело?
– Не узнал?
Он вгляделся.
– Извиняюсь…
– Даша. Помните…. Помнишь – совхоз «Луч Ильича», сорок с лишним лет назад, девушки из худучилища? Помнишь?
Он вспомнил. И тут же изменился, широко заулыбался, развел руками:
– Да, вот так вот оно… Я, конечно, это самое… Увлекся… Но устал, если честно, сколько строят, столько и ругаюсь со всеми… Ну, как вы, как жизнь?
– Лучше всех, ты же видишь.
Даша стояла на широком подоконнике в грязном синем халате, голова в косынке, на ногах резиновые сапоги – самая удобная обувь для подобной работы, в руках губка и щетка.
– Да, в самом деле, – хмыкнул Вася и подал ей руку, чтобы помочь спуститься.
Но, когда подавал, чуть замешкался. Всего на долю секунды – глянул на чистую, полную свою руку с массивным перстнем на пальце, на край рукава белой рубашки, выглядывавший из-под темно-синей, с отливом, дорогой материи пиджака. Даша это заметила и спрыгнула сама – вполне легко для своих лет. Она вообще чувствовала себя телом намного моложе, чем душой (у большинства обычно наоборот); когда пришлось пару лет назад поработать в кондитерской на продаже пирожных и всякой сладкой выпечки, отстаивала двенадцатичасовые смены без чрезвычайных усилий, в то время как ее двадцатилетние подружки ныли, стонали и после двух-трех месяцев увольнялись, говоря, что это каторга. Даша работала бы и дальше, но вернулся хозяин, бывший в долгой отлучке, узнал, сколько ей лет, и поспешил распрощаться.
– Значит, так? – неопределенно спросил Вася.
– Да, вот так. Странно, что ничего о тебе не слышала, а ты большой человек, если такой дом построил.
– Ну, есть и побольше меня. И я в особой сфере обретаюсь, там не очень-то светятся.
– Не бандит, надеюсь?
Вася засмеялся. Бог ты мой, подумала Даша, сколько лет прошло, а смех такой же – тонкий и с привизгами, подростковый.
– Нет, все легально, но… Не для широкой публики.
– Ладно, темни. Мне без разницы на самом деле.
– Действительно, человек не только работой определяется, а… – Вася запнулся, ища, чем еще определяется человек. И не нашел.
Помолчали. Вася явно не хотел ни о чем расспрашивать, опасаясь узнать о жизни этой женщины что-нибудь неприятное. Даша спросила сама:
– У тебя, как я поняла, ребенок маленький? Вторая семья?
– Вторая, да… – Вася словно извинялся, что у него вторая семья, огромный дом, что он очень обеспечен и, судя по виду, вполне здоров.
А еще, наверное, он боялся, что женщина захочет встретиться с ним в другом месте, вспомнить прошлое, давно забытое, поэтому глянул на часы в золотом ободке, с тремя маленькими циферблатами внутри основного, и озабоченно сказал:
– Рад был увидеть, но… Вы же еще будете работать тут? Как-нибудь загляну, поговорим.
И пошел из комнаты.
И надо было отпустить его с миром, но Даше почему-то стало очень обидно, она сказала:
– А у меня от тебя ребенок был.
Вася остановился. Стоя боком, спросил:
– То есть? Что значит – был?
– Аборт я делала.
– Именно от меня?
– Да.
– Ну… Молодость, грехи… Не понял, у тебя какие-то претензии?
– Конечно, нет, о чем ты?
– А зачем тогда говорить? Я был сопляк, дурак, ты, кстати, старше была и могла бы головой думать. Все на равных! А то привыкли на мужиков валить все… – фраза повисла, явно не хватало привычного матерного окончания. И Даша сама его подхватила, произнесла слово громко и четко.
– Что? – не понял Вася.
– Ты хотел это сказать. По губам видела. Но удержался. И на том спасибо.
– Даша, ты… Ты зря…
Он вдруг подошел, взял ее за плечи, не боясь испачкаться.
– Я сейчас все вспомнил. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Ты меня другим человеком сделала. Я был закомплексованный весь, был какой-то… Не верил в себя.
– Да брось. А Лера, учительница, а другие?
– Они со мной баловались, как со щенком. А ты… Не знаю даже, как объяснить…
– Я поняла.
– Вот. А потом уехала неожиданно. Меня отец в город тогда посылал, я вернулся, а тебя нет. Потом узнал, что он тебя… Я поругался с ним сильно…
– Мог бы найти, если бы хотел.
– Мог бы, но… Школу надо было заканчивать… Сама понимаешь.
– Понимаю. Все нормально, Вася.
Вася смотрел на нее, улыбался. Запоздало удивился:
– А тебе сколько лет, извини? Ты же старше меня, значит…
– Да. Вслух не надо.
– Нет, но выглядишь… Максимум на пять- десят.
– Вот не знала, что выглядеть на пятьдесят – комплимент.
– В самом деле… Я просто… Разволновался, говорю чушь. Слушай, запиши мой телефон, давай встретимся. Хорошо? Все-таки не хвост собачий, лучшие дни моей жизни.
– Правда?
– Правда.
– Ну и все, и больше ничего не надо. Иди, Вася, тебе пора.
Через два дня, вечером, услышав все это, подруга Оксана сказала:
– Соврал он. Они все так говорят: лучшие дни, ты была лучшая, бла-бла-бла! Если лучшая, почему бросил?
– Он не бросал. Он тогда жизнь еще толком не начал. Я сама.
– Как это сама? Тебя его отец прогнал, забыла?
– Я не в обиде. Я понимала, что у нас ничего не будет.
– Ты себя не уважаешь и не любишь, Даша! Поэтому, прости, никто тебе правды не скажет, а я скажу, поэтому ты себя и загубила!
Оксана могла так говорить и по праву дружбы, и по праву своего положения: она многого добилась, в девяностые из челночницы превратилась во владелицу нескольких магазинов, два раза была замужем за достойными людьми, и оба раза удачно, просто первый муж умер от тяжелой болезни, потом она двинулась во власть, справедливо полагая, что это более надежный бизнес, чем торговля, до недавнего времени занимала высокий пост в областной администрации и с почетом ушла на заслуженный отдых, у нее двое сыновей, внуки и внучки, прекрасная квартира в центре, где все до мелочей продумано – лучшие дизайнеры города старались. Подруги сидели в столовой за большим овальным столом со столешницей из инкрустированного дерева, пили из антикварных фарфоровых чашек чудесный чай янтарного цвета, добавив туда немного рома, уютно пощелкивал – как бы дровами – электрический 3D-камин, с двух шагов не отличишь от настоящего, а тепло от него всамделишное, и даже запах натуральный, специальная отдушка, со скромным хвастовством объясняла Оксана.
– Почему загубила, Оксан? – успокаивала по- другу Даша. – Ну да, детей нет, печально, но… Странная мысль – зато умирать не жалко. Некого терять, понимаешь?
– Тоже верно. Мне вот заранее жаль мужиков своих, плакать будут по мамке. Из-за них и живу.
– Что ты говоришь? – встревожилась Даша. – Что за мысли у тебя?
– Да так. Пенсионное. Всегда была всем нужна, а сейчас… Ладно, это неинтересно. Просто жутко бывает, я вот недавно проснулась, не поверишь от чего.
– Ну-ка?
– Сон приснился эротический. И – оргазм во сне. Да такой яркий, Даш, с ума сойти. У меня такого даже в молодости не было. Не оргазма, а – чтобы во сне. Вот открытие в шестьдесят с лишним, да? И о вас с этим Васей вспомнила сейчас, и тоже…
– Оргазм?
– Да иди ты. Нет, просто так как-то свежо обидно стало. Будто вчера.
– На что обидно?
– На тебя, конечно. Я в этого Васю влюбилась сразу. В один момент. Прямо смертельно. Ты с ним вечером уходишь, а я в подушку утыкаюсь, будто сплю, и даже не реву, чтобы никто не услышал, а просто вытекаю вся слезами. Терзала себя, представляла, как вы… Такие красивые, такие… Вас прямо будто природа друг для друга сделала. Я с ума сходила, себя представляла вместо тебя, не себя в своем теле, со своим лицом, а будто именно была тобой. А потом понимаю, что тобой никогда не буду, и опять реву. И потом, то есть уже через много лет, тоже представляла часто и тебя, и его. С другими мужчинами была, а представляла его. Кстати, пересеклись один раз лет через двадцать – двадцать пять, но это уже не то было, он как-то быстро постервел, вышел из формы. И я этому даже порадовалась. А еще всегда радовалась, сука подлая, что у меня так хорошо жизнь сложилась, а у тебя не очень. Вот такая я тварь, Дашка. Всю жизнь эту жабу в себе носила. А ведь надо тебя благодарить, ты мне тогда будто пинка дала на всю жизнь. Я решила: умру, но докажу, что я лучше! Я этим будто мстила тебе.
– Разве? Ты мне и взаймы давала, и на работу помогала устроиться.
– В кондитерку продавщицей? Да с радостью! Это и есть месть, да еще какая! Нет, даже не спорь, я про себя все знаю, как ни странно, мы же в других лучше разбираемся, чем в себе. Одно хорошо – не завидую тебе уже. А тогда, ты даже вообразить не можешь, как я тебя ненавидела, Дашенька, ох, как же я тебя ненавидела!
И Оксана покачала головой, а лицо было светлое, радостное, будто она опять переживала эту свою лютую ненависть и любовалась ею.
Красавцы
– Это безобразие, он весь бархат на диване изотрёт.
И. Бунин. «Красавица»На Пасху, солнечным ранним вечером, к храму Святителя Николая у Соломенной сторожки, знаменитому, деревянному, построенному по проекту архитектора Шехтеля, популярному среди местных жителей, да и всех знатоков Москвы, при этом укромному, расположенному в тихом месте, на краю парка Дубки, подъехала бесшумно и гладко, словно подплыла, новенькая машина, сверкающая боками и дисками колес, серебристый «лексус», похожий на океанский лайнер своим скошенным книзу радиатором и всей своей мощной, но элегантной массивностью.
Из него вышла молодая женщина, тоже, как и машина, новенькая, будто только что рожденная – уже взрослой и готовой, как Афродита. У нее была идеальная кожа лица и обнаженных рук, белые волосы лились плавными волнами. Золотые часики со стразами, наверняка от модного дизайнера, серый брючной костюм без единой складки и морщинки, белые туфли на высоких шпильках – все, что было на ней, показывало, что она по жизни выбирает вещи только самого лучшего качества и ни в чем не допускает отступлений от этого правила. Поэтому и машина у нее – лучшего качества, и церковь она выбрала для посещения – лучшего качества, и все близкие ее наверняка лучшего качества.
Так и оказалось: вслед за ней, чуть замешкавшись, выбрался мужчина – основательно старше, приятно полноватый, что даже шло его высокому росту, с проседью короткой стрижки на большой крепкой голове, и тоже будто новенький, словно он в прежней жизни не был ничьим мужем, а стал им только вот сейчас, при новой жене. И бежевые брюки, и легкая куртка цвета некрепкого кофе с молоком, и коричневые туфли, в которых с первого взгляда угадывались стильность, фирменность и весомая цена, – все это выглядело тоже новым.
А потом начал вылезать мальчик лет восьми, тоже новенький и красивый, в черном костюме с галстучком, похожий на маленького взрослого. Он вообще, как ни странно, казался взрослее своих спутников – выражение лица озабоченное, поспешное и испуганное; такие лица бывают у стариков, которые понимают свою никому уже ненужность, обременительность, вот и заискивают перед всеми, чувствуя свою вину.
Красавица, повязывая на голову платок и глядя на храм, упрекала мальчика ровным и презрительным голосом:
– Я говорила тебе не трогать, зачем ты туда полез? Ты тупой? Нормальных слов не понимаешь? Орать на тебя?
Мальчик не отвечал, понимая, что любой его ответ вызовет новую вспышку. Он сидел в открытой дверце, спустив ноги вниз. Будто сомневался, позволят ему выйти или нет.
– Чего застрял? – спросила женщина. – Денис, он явный тормоз, его к врачу надо.
– Да ладно тебе, – отозвался мужчина.
– Может, пусть посидит? А то там тоже что-нибудь уронит и разольет, позорище. Машину заодно посторожит, мало ли.
Она глянула на меня, подозрительно стоящего неподалеку. Подозрительно – потому что человек должен или куда-то идти, а если устал, должен сидеть. Этот же стоит и смотрит. Ладно бы на храм глядел, крестясь, тогда понятно. Нет, торчит тут непонятным столбом и пялится в неизвестность. Кто знает, что у таких на уме.
– Пусть разомнется, – сказал Денис.
И мальчик опустил ноги до асфальта.
– Нефиг делать! – возразила красавица. – И я сколько говорила: не спорь при ребенке, мы сами все должны решить! Чтобы выработать одно мнение.
Мальчик убрал ноги.
– Идешь или как? – спросил его Денис.
Мальчик пожал плечами.
– Дело твое, – сказал Денис и пошел к церкви.
Пошла и красавица, на ходу старательно осеняя себя крестным знамением, и удивительным образом казалось, что эти ее жесты – тоже новенькие, вот только что ею придуманные, а если и не ею, то они у нее, несомненно, лучшего качества.
Мальчик остался сидеть.
Он глянул на меня – как-то вопросительно, будто хотел понять, что я слышал и видел и как к этому отношусь.
Я дружески улыбнулся: все нормально, брат, все отлично, жизнь продолжается.
И он в ответ улыбнулся открыто и радостно – как родному, как единственно близкому на свете человеку.
Муж
У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплющенный, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.
И. Бунин. «Дурочка»Это было счастливое время: мы с женой и маленькой дочкой разъехались с моими родителями, разменом это называлось, вселились в однокомнатную квартирку, начали самостоятельную жизнь. Я перекрасил кухню и ванную, наклеил в комнате новые обои, в углу поставили детскую кроватку, у стены диван-книжку, никогда не складывавшийся, на полу был кем-то подаренный палас, ярко-синий с красными кругами, от которых рябило в глазах. Больше не было ничего, да ничего и не требовалось.
К нам приходили друзья и подруги, веселые и холостые, – мы были первой семейной парой и первыми, кто родил ребенка себе на радость и заботу. Они нам завидовали, потому что почти все жили с родителями, были зависимы и материально, и жилищно. А я тогда ушел из школы, где проучительствовал после университета три года, работал грузчиком, получая в два раза больше, чем в школе, после смен коротко спал, а потом запирался в санузле – ставил на старую стиральную машинку «Рига» пишущую машинку «Москва», садился на крышку унитаза, подстелив старое полотенце, чтобы не застудиться, и, бойко стуча двумя пальцами, сочинял рассказы, которые рвал сразу же после сочинения. Рукой писать не мог – плохо разбирал собственный почерк, он меня раздражал. А буквы машинописные, стандартные отчуждали текст, я видел его отстраненно, как не свой. Поэтому и рвал.
С бумагой была проблема. Иногда выручали папа и мама, принося с работы небольшие стопки чудесных, гладких и белых учрежденческих листов. Иногда удавалось ухватить что-то в магазине. Продавалась, помнится, дивная бумага, называвшаяся «Хозяйственная». Пятьсот листов в пачке, очень тонкая, как папиросная, серая, с видимыми в фактуре тонкими щепочками. Зато легко рвалась, а еще можно было использовать как туалетную, которая тоже была в дефиците.
Однажды я пришел с работы и увидел на кухне пожилую женщину, беседующую с моей женой. Я ее встречал до этого во дворе и в подъезде – сутулая, лицо смугловатое, глаза темные, почти черные, как у персонажей мультфильмов сороковых-пятидесятых годов, на щеке большое родимое пятно, здоровалась очень вежливо и очень тихо. Прошмыгивала мимо, словно боялась, что я начну разговор. Сектантка какая-то, почему-то думалось мне.
Увидев меня, она тут же вскочила, сказала, что ей пора. Жена оставляла ее:
– Валентина, чай не допила даже!
– Нет, нет, пора!
– Странная женщина, – рассказала жена. – Мы с ней вместе детей выгуливаем, у них тоже дочь, полтора года.
– Дочь? Она же старая.
– Да, но не совсем. Около сорока ей, просто выглядит так. Жаловалась, ребенок никак ходить не начнет, другие проблемы какие-то со здоровьем, а муж не велит врачам показывать.
– Почему?
– Не верит им. Он какой-то, наверно, двинутый. Они по знакомству поженились, представляешь? Валентина никак замуж не могла выйти, ее мамаша нашла сваху, ты знал, что сейчас свахи есть?
– Нет. А есть?
– Нашли же! И сваха отыскала этого красавца. Еще старше ее. Ты его видел, наверно, лицо такое, как у питекантропа, честное слово!
Да, я его видел. Редкостно некрасивый человек. В каракулевой серебристой шапке военного фасона, в черном пальто. Приземистый, широкоплечий, ноги очень короткие, не больше трети длины тела, особенно это заметно было сзади. А лицо если не питекантропа, то какого-то древнего человека, тоже темное, как у Валентины, с очень широким ртом, выступающими надбровными дугами. Что ж, они друг друга стоят, подумал я с молодой незлой жестокостью.
Я все чаще заставал Валентину. Не имея подруг, она прикипела душой к моей добросердечной жене, то и дело забегала попить чайку, поговорить. Как только я появлялся, она тут же спешила убраться.
– Привыкла, у нее муж терпеть не может, когда кто-то приходит, – объяснила жена. – Вообще дикий. Запрещает ей краситься, не любит, когда она что-то цветное носит, только темное, если что-то такое наденет, он сразу – для кого наряжаешься?
– Верующий, может? Баптист какой-нибудь?
– Наоборот, даже в партии. Один раз какой-то ее родственник анекдот рассказал политический, он ему: при мне больше таких гадостей не говорите! А ее называет только по отчеству, и даже не Ивановна, а – Иванна. Иванна и Иванна, отчество именем сделал. А она о нем тоже без имени. Муж. Или – он. Или – Самохин, по фамилии. Говорит, он с работы приходит, и, если ужин не готов, все, на целый вечер надулся, замолчал. Хотя и так молчит. Сидит, таблицы составляет.
– Какие таблицы?
– Лотерейные. Где номера проставлять надо.
– «Спортлото», что ли?
– Ну да. После каждого тиража записывает выигравшие номера, графики какие-то рисует. Очень хочет выиграть. Вообще нелепо, да? Такое ощущение, что в одном времени живут люди из разных времен. Вот мы, извини, конечно, но мы все-таки современные, согласись, и вот они – как в пещере у себя живут. Только вместо костра телевизор. Книг, она говорит, почти нет. Только детские, она дочери заранее покупает, на вырост, а он каждую проверяет и, если что-то не так, велит вернуть в магазин. А в магазине не принимают, она на работе продает, у кого дети есть. Смешно, правда? И хорошо еще, ей мать помогает, она совсем старушка, внучку к себе берет, Валентина работать может, а то сидела бы дома, как в тюрьме. Жуть.
Однажды Валентина преподнесла мне роскошный подарок: десяток тетрадей в клетку. 12 листов, цена 2 копейки, с рук дороже. Она работала там, где эти тетради производились, и вот выдали какое-то количество в счет зарплаты. Тогда это бывало – натура вместо денег. Я хотел заплатить, Валентина отказалась наотрез. Только просила не говорить мужу.
– С какой стати я ему скажу? Мы даже не здороваемся.
– Это да, он ни с кем не здоровается. Но – мало ли.
Она говорила так, будто извинялась за каждое произнесенное слово, ее было очень неловко слушать. Я пообещал, что не скажу ее мужу, даже если спросит. Жена улыбнулась, оценив мой юмор, Валентина не поняла, всерьез поблагодарила.
Эти тетради я расшил на листы и целый месяц печатал на них. Клетки немного мешали читать, зато помещалось больше текста, листы были длинней обычных.
Время от времени жена рассказывала новости о Валентине и разные занимательные подробности ее жизни с мужем. Оказывается, он требует от нее близости каждый вечер. При этом гасит свет и наглухо задергивает шторы, что, впрочем, соответствует и ее желаниям. Валентина должна лежать молча и дышать негромко, иначе он обижается и спрашивает: «Чего сопишь?» В дни получки, пятого и двадцатого, со смехом и удивлением рассказывала жена, Самохин предупреждает: «Иванна, сегодня дашь мне раком!»
– Тьфу, неужели так и говорит? – кривился я, очень брезгливый на выражения такого рода и всегда – и до сих пор – предпочитающий заместительные обороты.
– Так и говорит. А она этого ужасно не любит, стесняется, даже плачет. Но не при нем – в ванную запрется и там сидит, заливается. А он видит – нос красный и глаза тоже, ругается, думает, что она простудилась. Ненавидит, когда она болеет.
Как-то вечером я вернулся со смены, когда Валентина выходила из нашей квартиры, и, так совпало, в это же время поднимался по лестнице Самохин.
Казалось, Валентина упадет в обморок. Глядя на мужа со страхом, она забормотала:
– А я тут… По-соседски… Зашла вот… Сахара хотела…
Она посмотрела на свои руки, которые выставила перед собой, сложив пальцы ковшом, будто что-то держала, но там ничего не было, она тут же оправдалась:
– А у них тоже… Вот время какое, даже сахар в дефиците!
Самохин стоят, молчал и слушал. Тень усмешки промелькнула на мрачном лице: ему было занятно наблюдать, как выкручивается Валентина. Потом отдельно осмотрел мою красавицу жену и, похоже, не одобрил. Осмотрел и меня, худого, молодого, волосы до плеч, глаза веселые и наглые. Одобрил еще меньше. И пошел дальше. Валентина заторопилась за ним, на ходу оборачиваясь и разводя руками: уж извините, что так!

