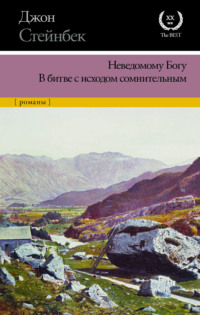
Неведомому Богу. В битве с исходом сомнительным
Глава 10
Свадьба состоялась в Монтерее, в маленькой протестантской часовне. Церемония прошла торжественно и уныло. Церковь так часто наблюдала смерть двух зрелых тел в процессе бракосочетания, что, казалось, ритуалом венчания праздновала мистическую двойную кончину. И Джозеф, и Элизабет ощущали мрачность приговора.
«Всю оставшуюся жизнь вам предстоит терпеть», – обещал безрадостный церковный ритуал, а холодная музыка звучала безысходным пророчеством.
Элизабет посмотрела на сутулого отца: тот едва терпел ненавистную обстановку христианского храма, считая все вокруг оскорблением того, что называл своим интеллектом. Сухие пальцы не несли благословения. Она поспешно перевела взгляд на стоявшего рядом человека, который с каждой секундой все больше превращался в ее мужа.
Лицо Джозефа выглядело решительным и суровым. На скулах выступили желваки от напряжения. Вдруг Элизабет стало его жалко. С острой печалью она подумала: «Если бы мама была с нами, она могла бы сказать: «Вот моя дочка. Она хорошая девочка, Джозеф, потому что я люблю ее. И как только научится, станет хорошей женой. Надеюсь, ты вырвешься из своей жесткой скорлупы, Джозеф, и сможешь отнестись к Элизабет с нежностью. Это единственное, чего она хочет; исполнить желание девочки не так уж сложно»».
Внезапно глаза Элизабет наполнились слезами.
– Согласна, – произнесла она громко и про себя добавила: «Надо немного помолиться. Господи Иисусе, помоги. Мне очень страшно. За все время, отведенное на познание себя, я так ничего и не узнала. Смилуйся надо мной, Господи Иисусе, – хотя бы до тех пор, пока не пойму, что́ собой представляю».
Хотелось увидеть на стене распятие, но церковь была протестантской. А когда Элизабет нарисовала Христа в воображении, тот предстал с красивым мужественным лицом, молодой бородой и пронзительными растерянными глазами стоявшего рядом Джозефа.
А в эту самую минуту мозг Джозефа сжимал непонятный страх.
«В церковном ритуале есть что-то безнравственное, – думал он. – Почему, чтобы найти свой брак, мы должны пройти через странное испытание? Мне казалось, что в церкви таится та красота, которую ищет человек, а здесь только жалкое, рабское поклонение». Его постигло разочарование за себя и за Элизабет, смешанное с чувством вины из-за того, что ей приходится терпеть столь грязное вступление в брак.
Элизабет потянула его за рукав и прошептала:
– Все, конец. Теперь надо выйти. Повернись ко мне. – Она взяла его под руку, и, как только они сделали первый шаг по проходу, с колокольни донесся мелодичный перезвон.
Джозеф судорожно вздохнул и подумал: «Вот и Бог пришел на свадьбу; жаль, что с опозданием. Наконец-то железный Бог. – Он чувствовал, что если бы знал действенный способ, то в эту минуту начал бы молиться. – Вот что нас связывает. Вот настоящая свадьба – добрый железный голос!
Вот то, что мне близко и что я знаю. Возлюбленные колокола, наполняющие своим голосом тела и неистовые сердца! Так утром солнечные лучи бьют в небесный колокол; так гулко стучит дождь по полному животу земли. Конечно знаю: так молния пронзает измученный воздух. А порою, желтым днем, горячий сладкий ветер играет верхушками деревьев».
Он робко взглянул на жену и прошептал:
– Колокола прекрасны, Элизабет. Колокола священны.
Она вздрогнула и посмотрела недоуменно, так как образ не изменился: лицо Христа по-прежнему воплощалось в лице Джозефа. Она неловко рассмеялась и призналась себе: «Молюсь собственному мужу».
Когда молодожены собрались в путь, шорник Макгрегор загрустил и неуклюже поцеловал дочь в лоб.
– Не забывай отца. Впрочем, если забудешь, не удивлюсь. Сейчас это почти в порядке вещей.
– Ты приедешь к нам на ранчо, папа?
– Никого не навещаю, – сердито ответил Макгрегор. – От обязательств человек только слабеет, а удовольствия не получает.
– Будем рады вас видеть, – заметил Джозеф.
– Долго будете ждать – и вы, и ваши сотни акров. Скорее встретимся в аду, чем приеду на ранчо.
Он отвел Джозефа в сторону, чтобы не услышала Элизабет, и горестно признался:
– Ненавижу тебя за то, что ты сильнее меня. Хочу полюбить, но не могу: слишком слаб. То же самое с Элизабет и ее сумасшедшей матерью. Обе знали, что я слаб, и за это я обеих ненавидел.
Джозеф улыбнулся. Шорник вызывал жалость и сочувствие.
– То, что вы делаете сейчас, – вовсе не слабость.
– Нет! – воскликнул Макгрегор. – Это хороший, сильный поступок. О, я знаю, как быть сильным, но не могу научиться выдержке и упорству.
Джозеф снисходительно похлопал тестя по руке:
– Будем рады, если приедете.
Губы Макгрегора тут же сердито сжались.
Из Монтерея ехали на поезде по длинной долине Салинас – серо-золотой аллее между двумя мощными горными хребтами. Смотрели в окно и видели, как ветер дует по долине в сторону океана, как своей сухой мощью пригибает к земле злаки; как травы ложатся и напоминают гладкую собачью шерсть; как он гонит к устью долины целые стада перекати-поле, как сгибает деревья, приказывая им расти криво. На маленьких станциях Чуалар, Гонсалес и Гринфилд видели обозы с зерном, ожидающие погрузки огромных мешков. Поезд шел вдоль пересохшей реки Салинас. Там по горячему песку широкого желтого русла безутешно бродили цапли в поисках воды, где еще могла остаться рыба, и, нервно оглядываясь на поезд, убегал испуганный койот. А горы тянулись по обе стороны подобно рельсам для невиданного огромного поезда.
В станционном городке Кинг-Сити Джозеф и Элизабет сошли с поезда и отправились в платную конюшню, где дожидались лошади. По дороге из Кинг-Сити в долину Пресвятой Девы оба чувствовали себя свежими, сияющими и странно молодыми. В багажном ящике стояли корзины с новой одеждой. Длинные плащи защищали дорожные костюмы от пыли, а лицо Элизабет прикрывала синяя вуаль, из-под которой в поисках впечатлений стреляли по сторонам любопытные глаза. Сидя плечом к плечу и глядя вперед, на коричневато-желтую дорогу, Джозеф и Элизабет испытывали смущение: игра казалась слишком дерзкой. Отдохнувшие за четыре дня, сытые лошади дергали головами и рвались вперед, однако Джозеф сдерживал их нетерпение, приговаривая:
– Тише, тише; не спешите. Пока доедем до дома, еще успеете устать.
В нескольких милях впереди показались ивы. Раскидистые гибкие деревья росли на берегу речки, спешившей навстречу широкой реке Салинас. Ивы уже пожелтели, а листья ядовитого дуба угрожающе покраснели. В месте слияния рек Джозеф остановил бричку, чтобы посмотреть, как живая вода речки Нуэстра-Сеньора устало погружается в белый песок и пропадает в новом русле. Говорили, что под землей она продолжает течь так же весело, и в этом можно было убедиться, прокопав песок на несколько футов в глубину. Неподалеку от места впадения виднелись широкие ямы, заботливо вырытые в русле специально для того, чтобы скот мог утолить жажду.
Джозеф расстегнул плащ, так как день выдался очень жарким, снял черную шляпу, развязал шарф, защищавший от пыли воротник, и протер им кожаную ленту.
– Хочешь спуститься, Элизабет? Можно ополоснуть руки, и сразу станет прохладнее.
Однако Элизабет покачала головой. Странно было видеть, как качается эта закутанная голова.
– Нет, милый, мне хорошо. Когда приедем домой, будет уже очень поздно. Лучше поспешим.
Он ударил поводьями по крупам лошадей, и те послушно потрусили вдоль реки. Ивы низко склонялись над их головами, а иногда ласково касались плеч длинными гибкими ветками. Сверчки истошно трещали в нагретых кустах, а кузнечики взлетали на белых или желтых крыльях, на миг восторженно задерживались в воздухе и шлепались в мягкую сухую траву. Время от времени с дороги в панике убегали маленькие калифорнийские кролики, а едва оказавшись в безопасности, садились на задние лапки и с любопытством рассматривали бричку. Терпкий дух перегретой травы смешивался с горьким запахом ивовой коры и ароматом лавровых деревьев. Откинувшись на кожаную спинку сиденья, Джозеф и Элизабет отдались на волю жаркого дня и ритмичного перестука копыт. Их спины и плечи послушно повторяли каждое движение брички. Оба впали в состояние, похожее на сон, но более глубокое и лишенное сновидений. Теперь дорога и река вели прямиком в горы. Темный шалфей покрывал высокие гребни подобно грубому меху – все пространство, кроме шрамов от воды, остававшихся серыми и голыми, как недавно зажившие раны от седла на спине лошади. Солнце клонилось к западу, а дорога и река указывали место заката. Для сидящей в бричке пары время растворилось в неровных промежутках между мыслями. Холмы и русло реки величественно подступили, а вскоре дорога начала подниматься, и лошади напряглись, тяжело вздымая и резко, словно молоты, роняя головы. Путь вверх по склону оказался долгим. Колеса скрипели на плоских хлопьях известняка, составлявшего основную породу холмов. Железные обода жестко стучали по камням.
Джозеф наклонился и встряхнул головой, чтобы прогнать забытье, как собака вытряхивает из ушей воду.
– Элизабет, мы подъезжаем к ущелью.
Она развязала вуаль и подняла на шляпу. Глаза начали медленно оживать.
– Должно быть, уснула.
– И я тоже. Задремал с открытыми глазами. Но мы уже возле ущелья.
Гора была расколота. Два белых выступа из гладкого известняка аккуратно обрушились, немного склонившись навстречу друг другу и оставив место только для русла реки. Дорога лепилась к скале в десяти футах над поверхностью воды. В середине ущелья, где зажатая с обеих сторон река текла быстро, глубоко и беззвучно, из воды поднимался грубый монолит и с сердитым ворчаньем разрезал поток, словно нос упрямо борющейся с течением лодки. Солнце уже спустилось за гору, но сквозь ущелье было видно, как его трепещущий свет ложится на долину Пресвятой Девы. Бричка попала в прохладную голубую тень белых скал. Взобравшись на вершину длинного склона, лошади теперь шли легко, однако испуганно вытягивали шеи и фыркали, искоса глядя на текущую далеко внизу реку.
Джозеф укоротил поводья и правой ногой слегка нажал на тормоз брички. Он взглянул на безмятежную воду и ощутил прилив чистой теплой радости от предвкушения возвращения в долину, до которой оставалось всего несколько мгновений пути. Затем повернулся к Элизабет, чтобы поделиться счастливым ожиданием, и увидел, что она побледнела, а в ее глазах застыл ужас.
– Давай остановимся, милый. Мне страшно! – Сквозь расщелину Элизабет смотрела в залитую солнцем долину.
Джозеф натянул поводья, до предела выжал тормоз и взглянул вопросительно:
– Прости, я не знал. Тебя пугают узкая дорога и река внизу?
– Нет.
Джозеф спустился на землю и подал ей руку. Однако едва он попытался подвести Элизабет к проходу между скалами, она вырвалась и дрожа остановилась в тени. «Надо постараться объяснить, – подумал он. – Я еще ни разу не говорил об этом. Боялся, что будет слишком сложно, но вот пришла пора выразить все, что необходимо сказать». Он мысленно подобрал те слова, которые собирался произнести. «Элизабет, – воскликнул беззвучно. – Слышишь меня? Я дрожу оттого, что предстоит передать самое сложное, и молюсь о даре выразить чувства. – Глаза его расширились, Джозеф впал в состояние транса. – Думаю без слов, – проговорил мысленно. – Считается, что это невозможно, и все-таки я думаю. Элизабет, услышь меня. Распятый Христос стал символом всей людской боли. А человек, стоящий на вершине холма с распростертыми руками как символ символа, тоже способен вместить всю боль, которая существовала и будет существовать во веки веков».
На миг Элизабет ворвалась в его мысли с возгласом:
– Джозеф, мне страшно!
А потом он продолжил думать: «Послушай, милая. Ничего не бойся. Я говорю, что умею думать без слов. Позволь побродить среди этих слов на ощупь: попробовать их на вкус, испытать на прочность. Это пространство между привычной реальностью и реальностью чистой, незамутненной, не искаженной ощущениями. Здесь проходит граница. Вчера мы поженились, но это не стало свадьбой. Вот наша свадьба – путь через перевал – вход в ущелье подобно тому, как сперма и яйцеклетка соединяются в чуде беременности. Вот он, символ неискаженной реальности. В моем сердце живет мгновенье, своей формой, сутью, продолжительностью не похожее на все остальные мгновенья. Да, Элизабет, в этом мгновенье заключена наша свадьба. – И он мысленно закончил: – Во время недолгого распятия Христос сосредоточил в своем теле все сущее страдание, и оно пребывало неискаженным».
Размышляя так, Джозеф улетел к звездам, но внезапно холмы окружили его, лишив одиночества чистого раздумья. Руки и ноги потяжелели и затекли, превратившись в неподъемный груз.
Элизабет заметила, как безнадежно обмяк его рот, как потускнели глаза, утратив недавний огненный блеск.
– Джозеф, чего ты хочешь? – воскликнула она. – О чем просишь меня?
Дважды он попытался ответить, однако горло сжималось и слова застревали в груди. Наконец, с трудом откашлявшись, он хрипло проговорил:
– Хочу пройти через ущелье.
– Я боюсь, Джозеф. Не знаю почему, но ужасно боюсь.
Он вырвался из состояния летаргии и непослушной, негнущейся рукой обнял жену.
– Нечего бояться, милая. Это совсем просто. Я слишком долго жил один, и теперь для меня очень важно пройти через ущелье вместе с тобой.
Она вздрогнула и в ужасе заглянула в зловещую синюю тьму.
– Я пойду, Джозеф, – ответила она горестно. – Должна пойти, но все равно останусь на этой стороне. Буду думать о себе как о девушке, что стоит здесь и сквозь узкий просвет смотрит на ту новую Элизабет, которая появится там, в долине.
Внезапно она вспомнила, как в крошечных оловянных чашках подавала чай трем подружкам и как они строго напоминали друг другу: «Теперь мы леди, а леди всегда сидят ровно и красиво держат руки».
А еще вспомнила, как пыталась поймать в носовой платок сновидения любимой куклы.
– Джозеф, быть женщиной очень страшно и тяжело. Я боюсь. Все, о чем я думала прежде; все, чем была, останется на этой стороне, а на другую сторону придет новая, взрослая женщина. Казалось, что перемена может произойти постепенно, а получается так быстро.
Вспомнились слова мамы: «Когда вырастешь, Элизабет, узнаешь боль, но совсем не ту, о которой думаешь. Это будет боль, которую нельзя облегчить целебным поцелуем».
– Сейчас пойду, Джозеф, – пообещала она спокойно. – Я часто веду себя глупо; тебе придется привыкнуть.
Тяжесть неизвестности покинула Джозефа. Он крепче обнял жену за талию и осторожно повел вперед. Даже не поднимая головы, Элизабет ощущала его ласковый взгляд. Они медленно прошли сквозь синюю тень ущелья. Джозеф коротко рассмеялся.
– Бывает боль более острая, чем восторг, Элизабет. Почти как острая перечная мята, которая обжигает язык. Горечь женского существования может превратиться в экстаз.
Его голос стих, а шаги застучали по каменистой дороге, эхом отдаваясь среди скал. Элизабет закрыла глаза и доверилась крепкой руке. Она попыталась отключить сознание, погрузить разум во тьму, но все равно слышала сердитое бормотанье рассекающего воду монолита и ощущала горный холод воздуха.
А потом воздух потеплел, и дорога уже не казалась такой жесткой. Свет под опущенными веками сначала стал черно-красным, а потом желто-красным. Джозеф остановился и крепко прижал ее к груди.
– Теперь все, Элизабет. Мы сделали это.
Она открыла глаза и посмотрела вокруг, на уединенную живописную долину. Земля танцевала в сиянии солнца и блеске деревьев; оживляя угасающий день, на свежем ветру слегка покачивались небольшие рощицы белых дубов. Перед восхищенным взором раскинулся городок Пресвятой Девы с потемневшими от времени, но украшенными плетистыми розами домами и пылающими огнем настурций заборами. Элизабет с облегчением воскликнула:
– Я спала и видела дурной сон! Постараюсь его забыть. Все это неправда.
Глаза Джозефа сияли.
– Значит, быть женщиной не так уж плохо? – спросил он.
– Все осталось прежним. Ничего не изменилось. Даже не представляла, насколько прекрасна твоя долина!
– Подожди здесь, – попросил он. – Сейчас приведу лошадей.
Однако стоило ему уйти, как Элизабет горько расплакалась, увидев девочку с косичками и в короткой накрахмаленной юбочке. Малышка медлила на краю ущелья, с тревогой заглядывала в темноту, переминалась с ноги на ногу, нервно подпрыгивала и бросала в поток камешки. Девочка немного постояла, как когда-то сама Элизабет стояла на углу улицы, ожидая возвращения отца, а потом печально отвернулась и медленно пошла в сторону Монтерея. Элизабет пожалела бедняжку. Трудно быть ребенком: впереди еще столько испытаний, столько болезненных царапин и шишек.
Глава 11
Повозка благополучно миновала ущелье. Лошади высоко поднимали ноги, для надежности стараясь ступать как можно дальше от обрыва, и с опаской косились на реку, а Джозеф с силой натягивал поводья и до визга выжимал тормоз. Едва выйдя на простор, лошади успокоились, и долгое путешествие возобновилось. Джозеф остановил бричку, помог Элизабет вернуться на место. Она села прямо, запахнула на коленях плащ, опустила на лицо вуаль и заметила:
– Если поедем через город, все будут нас рассматривать.
Джозеф что-то сказал лошадям на понятном им языке и ослабил поводья.
– Людское любопытство раздражает тебя?
– Разумеется, нет. Напротив, радует. Испытаю гордость, как будто сделала что-то необычное. Но когда все будут на меня смотреть, придется сидеть прямо и держаться правильно.
Джозеф засмеялся.
– Может быть, никто и не посмотрит.
– Все посмотрят. Заставлю посмотреть.
Они поехали по единственной длинной улице городка, где дома лепились к дороге, как будто старались согреться. Женщины выходили на крыльцо, чтобы увидеть молодую пару, приветственно махали толстыми руками и бережно произносили новый титул, так как само слово звучало совсем по-новому:
– Buenas tardes, señora[7]. – И тут же через плечо обращались к кому-то в доме: – Ven aca, mira! mira! La nueva señora Wayne viene![8]
Элизабет приветливо махала в ответ, но все же старалась выглядеть чинной, взрослой особой. Чудь дальше пришлось остановиться, чтобы принять подарки. Посреди дороги стояла пожилая миссис Гутьерес; она держала за ноги курицу и громко расхваливала ее достоинства. Однако едва птица оказалась в багажном ящике брички, миссис Гутьерес застеснялась. Она поправила волосы, сжала руки и наконец с криком «No le hace!»[9] убежала во двор.
Прежде чем они доехали до конца улицы, в ящике собралась шумная компания связанной живности: два поросенка, ягненок, коза с испуганными глазами и подозрительно сморщенным выменем, четыре курицы и бойцовый петух. Из салуна высыпали веселые посетители и радостно вскинули кружки. Некоторое время молодоженов сопровождали пожелания счастья. Но вот последний дом остался за спиной, а дорога пошла вдоль реки.
Элизабет откинулась на спинку сиденья и глубоко вздохнула. Ее ладонь украдкой забралась в сгиб локтя мужа, на миг сжала руку и замерла в покое.
– Как в цирке, – сказала Элизабет. – Как на параде.
Джозеф снял шляпу и положил на колени. Влажные волосы спутались, глаза смотрели устало.
– Они хорошие люди, – проговорил он умиротворенно. – Буду рад оказаться дома. А ты?
– И я тоже, – ответила Элизабет и вдруг добавила: – Иногда любовь к людям становится такой же сильной и горячей, как страданье.
Джозеф быстро обернулся и взглянул удивленно: она только что высказала его собственную мысль.
– Почему ты об этом подумала, милая?
– Не знаю. А что?
– Я думал о том же: иногда люди, холмы, земля – все, кроме звезд, становится единым целым, и любовь к этому миру остра, как страданье.
– Значит, не звезды?
– Нет, звезды никогда. Звезды всегда чужие. Порою зловещие, но всегда чужие. Чувствуешь, как пахнет шалфей, Элизабет? Приятно вернуться домой.
Она подняла вуаль и глубоко, жадно вдохнула. Платаны начали желтеть, а земля уже покрылась первыми опавшими листьями. Бричка выехала на повторявшую линию реки длинную дорогу; солнце повисло над вершинами гор, за которыми прятался океан.
– Приедем глубокой ночью, – вздохнул Джозеф. Свет в лесу казался золотисто-синим, среди круглых камней бежал ручей.
С наступлением вечера воздух стал влажным и прозрачным, так что горы выглядели твердыми и острыми, как хрусталь. После захода солнца настало волшебное время: Джозеф и Элизабет смотрели вперед, на четко очерченные холмы, и не могли отвести глаз. Стук копыт и журчанье воды углубляли состояние транса. Джозеф сосредоточил немигающий взгляд на линии света над западным гребнем гор. Мысли замедлились, превратившись в картины, и на вершинах появились причудливые фигуры. С океана прилетела черная туча и зацепилась за гребень, а воображение превратило ее в голову черного козла. Джозеф ясно видел косо поставленные желтые глаза – умные и ехидные – и изогнутые рога. «Знаю, что козел действительно сидит, положив бороду на горный хребет, и смотрит в долину, – промелькнуло в сознании. – Он должен там быть. Кажется, я где-то прочитал или кто-то мне рассказал, что из океана должен выйти козел. – В эту минуту ему ничто не мешало собственной властью создавать вещи столь же великие, как сама земля. – Если решу, что козел там, он там появится. И я это сделаю. Козел важен».
Высоко в небе порхали птицы. Ловили крылышками последние солнечные лучи и мерцали, как маленькие звезды. Сыч вылетел на охоту и теперь отважно парил в воздухе, оглашая округу пронзительным криком в надежде вспугнуть притаившихся в траве маленьких существ, заставить их вздрогнуть и выдать свое присутствие. Долину быстро заполнил мрак, а черное облако, словно налюбовавшись земной красотой, вернулось в океан.
«Надо запомнить, что это был козел, чтобы никогда не оскорбить животное недоверием», – подумал Джозеф.
Элизабет слегка вздрогнула, и он обернулся:
– Замерзла, милая? Хочешь, прикрою колени попоной?
Она снова вздрогнула, но уже не так заметно, потому что постаралась сдержаться.
– Мне не холодно. Просто сейчас какое-то странное время. Поговори со мной. Опасное время.
Джозеф все еще думал о козле.
– Что значит опасное? – Он взял ее сжатые ладони и переложил на свое колено.
– Опасность в том, что можно потерять себя. Это из-за света. Вдруг показалось, что я таю и растворяюсь, как облако; сливаюсь со всем, что есть вокруг. Ощущение очень приятное, Джозеф. А потом закричал сыч, и стало страшно, что если слишком сильно сольюсь с холмами, то больше никогда не смогу снова превратиться в Элизабет.
– Так влияет вечер, – успокоил он. – Действует на все живые существа. Замечала когда-нибудь, как в это время ведут себя животные и птицы?
– Нет, – ответила она и с готовностью повернулась, почувствовав, что нашла взаимопонимание. – Кажется, я раньше вообще мало что замечала. А теперь словно глаза открылись. Как же по вечерам ведут себя животные?
Голос Элизабет прозвучал слишком громко и спутал его мысли.
– Не знаю, – ответил Джозеф угрюмо. – Точнее, знаю, но должен подумать. На подобные вопросы не ответишь так сразу, – поспешно добавил он, почувствовав, что был резок. Умолк и посмотрел в сгущающийся мрак. – Да, – заговорил он наконец. – Примерно так: вечером, когда становится по-настоящему темно, все животные замирают. Даже не мигают. Как будто о чем-то мечтают.
Он снова умолк.
– Помню кое-что интересное, – заговорила Элизабет. – Сама не знаю, когда заметила. Но ты сказал, что дело во времени суток, а эта картина важна для вечера.
– Что же? – уточнил он с интересом.
– Когда кошки едят, их хвосты лежат прямо и неподвижно.
– Да, – кивнул Джозеф. – Да, так и есть.
– И это единственное время, когда хвосты кошек лежат прямо и не шевелятся.
Элизабет весело рассмеялась. Теперь, рассказав об этом глупом наблюдении, она поняла, что его можно считать пародией на мечтающих животных Джозефа, и обрадовалась. Замечание показалось ей довольно глубоким.
Однако Джозеф не понял, какой мудрый вывод следует из кошачьих хвостов, и просто сказал:
– Сейчас поднимемся на холм, потом снова спустимся к лесу у реки. Проедем по длинной равнине, и все – мы дома. С вершины увидим огни.
Уже совсем стемнело. Опустилась глухая молчаливая ночь. Бричка взбиралась по склону, словно не желавшая подчиняться закону природы упрямая букашка.
Элизабет прижалась к мужу.
– Лошади идут уверенно. Знают дорогу или ориентируются по запахам?
– Видят, дорогая. Это только для нас совсем темно, а для них сейчас всего лишь глубокие сумерки. Скоро поднимемся на холм, и сразу появятся огни. Слишком тихо, – пожаловался он. – Мне эта ночь не нравится. Ничто вокруг не движется.
Подъем занял не меньше часа, и на вершине Джозеф остановился, чтобы дать лошадям отдых. Склонив головы, те дышали тяжело, но ровно.
– Смотри, – показал он. – Вон там горят огни. Уже поздно, но братья нас ждут. Я не сказал, когда приедем, но они, наверное, догадались. Один из огней движется. Скорее всего, фонарь во дворе. Должно быть, Томас пошел в конюшню, чтобы проверить лошадей.

