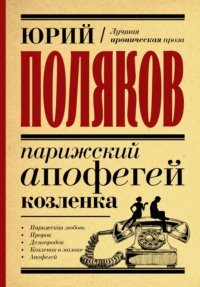
Парижский апофегей козленка
– Вы так считаете? – после долгого молчания спросил Журавленко.
– Ну сами посудите: американцы ведь не обращаются к своему президенту Рональд Уилсон Рейган?
– Резонно. Я должен подумать.
Он подумал и разрешил все оставить как есть, только попросил дописать еще кусок про новое мышление. Я дописал: очаровательные девчушки с большими белыми бантиками в косах под звонкий смех зала уносят со сцены «старое мышление» – мерзкие, неприлично сморщенные мозги из раскрашенного папье-маше, и приносят из-за кулис другие – из того же папье-маше, но большие, красивые, налитые соком созидательной мысли… Горбачев присутствовал на конференции и пришел от пионерского приветствия в восторг. Он только что встречался с Маргарет Тэтчер в Лондоне, и железная леди звала его попросту – Майкл. Генсеку очень понравилось, что во вверенной ему стране даже дети зовут его просто «Михаил». Приступая к реформам, он очень переживал, сможет ли расшевелить эту дремлющую азиатскую махину, а тут – сразу такой энергичный отзыв с самого юного фундамента державы! Забегая вперед, скажу, что Журавленко за чуткость к общественным переменам резко повысили. Впрочем, он и в самом деле оказался чутким человеком: одним из первых переметнулся на сторону Ельцина и в следующий раз позвонил мне как руководитель предвыборной кампании первого российского президента. По его заказу я придумал плакат, который вы все, конечно, помните: на огромном глянцевом листе в цвете изображены три богини (позировали, между прочим, победительницы конкурса «Мисс Бюст-1989»), а чуть в сторонке – задумавшийся Парис, очень похожий на рядового избирателя. Но главное – мои стихи:
На месте ПарисаЯ б выбрал Бориса!Этот плакат был перепечатан всеми демократическими газетами и журналами. Меня пригласили в семиюртинский общественный комитет поддержки Ельцина и выдали в качестве премии сто долларов – это была первая честно заработанная валюта в моей безвалютной жизни! Вполне возможно, что меня ждала блестящая политическая карьера, и Журавленко даже справлялся, когда же я наконец вернусь в Москву, но по трагическим обстоятельствам я медлил и к тому же имел неосторожность почти бесплатно сочинить агитационные стихи для кумырского отделения либерально-демократической партии:
Хочешь порядка во всем и всегда —Смело скажи Жириновскому – да!Моя мелкая политическая беспринципность стала известна, это все и погубило. Увы, я слишком поздно понял, что беспринципность должна быть последовательной и крупномасштабной – только в таком случае можно рассчитывать на политическую карьеру. Именно так поступал сам Журавленко. Кстати, он уже сбежал от Ельцина и теперь организовал собственную партию демократического патриотизма. Подозреваю, что Журавленко сам теперь будет баллотироваться в президенты. Незадолго до вылета в Катанью я сочинил по его просьбе такую подпись к будущему предвыборному плакату:
Есть у демопатриотаЕжедневная забота —Смысл и жизни, и борьбы:Отряхнуть народ от лениИ поднять его с коленей,А Россию – на дыбы!Но денег пока не получил…
Да, Горбачева погубила любовь к чутким, сметливо-переметливым соратникам. А Ельцина доконает его нездоровая любовь к сподвижникам, владеющим иностранными языками! Понятная слабость для человека, не получившего в юности порядочного образования… Но тут трудно удержаться и не вспомнить историю, приключившуюся с Недвижимцем. Он в свое время окончил сельскую школу, где иностранный язык по причинам бездорожья и удручающей удаленности от очагов культуры вообще почти не преподавали, если не считать уроков школьного завхоза, которого в конце войны немцы угнали на работу в Германию, но подоспевшие наши на полпути отбили и вернули домой. Так вот, Недвижимец, даже разбогатев, долго не мог жениться, потому что непременно хотел взять девушку, в совершенстве владеющую одним из европейских языков, предпочтительно английским. Он даже сваху за большие деньги нанял, и та все же нашла. Девушка была так себе, не первой свежести, но окончила спецшколу, стажировалась за границей и на языке Шекспира щебетала, как птаха. Первое время Недвижимец был положительно счастлив. Но потом стал замечать за своей женой разные странности: то она засмеется невпопад, то яичницу на сметане поджарит… Решил навести справки и выяснил: спецшколу она действительно окончила, но спецшкола эта была особенная, единственная в Москве, где применялась уникальная методика обучения иностранным языкам детей с дефектами умственного развития. Методика оказалась чудодейственной, ума она, правда, не прибавляла, но совершенное знание иностранных языков обеспечивала. Автор методики, он же директор школы, защитил на этом диссертацию и получил золотую медаль ВДНХ. А жена Недвижимца чуднела день ото дня. Тут как раз начались гайдаровские реформы, и она, увидав в телевизоре какого-нибудь министра-реформатора, хлопала в ладоши, пускала пузыри и кричала: «А я с ним в одной школе училась!..» Недвижимец хотел было развестись, да куда там – она уже забрюхатела. Сначала он очень переживал, особенно за будущего ребенка, но потом рассудил: если после окончания этой спецшколы люди аж до министров выросли, то что, собственно, беспокоиться… Сейчас его странноватенькому сыну только три года, но Недвижимец уже заранее оплатил ему место в этой замечательной спецшколе!
Витек воротился поздно и был хмур до неузнаваемости.
– Ну и как воспоминания? – спросил я.
– Иди ты со своей старухой!
Далее последовало замысловатое крупноблочное ругательство, которое, конечно, не под силу выдумать одному человеку, и могло оно родиться только усилиями многих поколений отечественных строителей в условиях чудовищной организации труда. Выразившись, Витек проследовал в ванную. Но сразу вернулся с тюбиком шампуня:
– А поядреней у тебя ничего нет?
– В каком смысле?
– Ну, какого-нибудь хозяйственного мыла?
– Нет.
– А стиральный порошок есть?
– Есть, под ванной.
Из любопытства и сострадания я пошел за ним следом. Витек нашел непочатую коробку «Лотоса», надорвал и полностью высыпал в горячую воду. Потом разделся и влез по горло.
– Спинку потереть?
– Иди ты!
Далее последовало еще более замысловатое ругательство, отличающееся от предыдущего примерно так же, как «Фауст» Гёте отличается от «Фауста» Марло. Могуч и неисчерпаем русский народ!
В это время позвонил Жгутович:
– Спишь?
– Тружусь.
– Слушай, может, Арнольду позвонить? Пусть еще «амораловки» подошлет!
– Совсем плохо?
– Да хуже некуда… Позвони, а?
– Вот ты и позвони! Я тебе сейчас телефон продиктую.
– Нет, ты позвони. Он на меня тогда в ресторане обиделся!
– И правильно сделал! Не будешь над людьми насмехаться. Он же не виноват, что ты в Москве родился…
– Позвони, – продолжал клянчить Жгутович. – Жена уже на пределе! А может, у тебя все-таки осталось?
– Ладно, позвоню, – согласился я, глянув на бутылку, где было уже не больше стакана.
А этого, для того чтобы плавно от халтуры перейти к «главненькому», явно маловато.
– Что там наш Витек поделывает? – спросил воодушевленный Стас.
– Почему это «наш»?
– Ну твой, твой.
– В ванной, грехи смывает.
– Заезжал в ЦДЛ – только и разговоров о нем, – тоскливо сообщил Жгутович.
– То ли еще завтра будет!
– А что будет?
– Узнаешь. Ты с Кипятковой знаком?
– Да… Она к нам в магазин заходит.
– Вот когда в следующий раз зайдет, ты ее про акашинский роман и спроси… Чего молчишь?
– А чего говорить?
– В среду читай «Литературный еженедельник», там Закусонский про моего Витька пишет.
– Ну это еще не слава.
– Курочка по зернышку клюет!
– Ты все равно не выиграешь!
– Выиграю! Так что скорее дочитывай свою энциклопедию, я уже для нее на полке место освободил. Что ты там еще интересненького вычитал?
– Да все то же, – упавшим голосом сообщил Жгутович. – Революцию в России, оказывается, тоже масоны сделали. Керенский был масоном. И все остальные. Ленин, наверное, тоже, но об этом не пишут. Вообще я поражен: как какая-нибудь мало-мальски историческая личность – так масон; как выдающийся человек – так масон…
– Может, они оттого историческими да выдающимися стали, что масонами были?
– Я подумаю…
– Подумай! Спокойной ночи!
Я положил трубку, очень довольный тем, как уел самонадеянного Жгутовича, и вдруг почувствовал в комнате бодряще-удушливый запах прачечной. Это был вымывшийся Витек.
– Что это за масоны такие? – спросил он.
– Как бы это тебе попонятнее объяснить, – начал я. – В двух словах не скажешь. Есть много версий, написаны десятки книг… Но если все-таки в двух словах, это такое тайное общество…
– Какое же оно, на хрен, тайное, если о нем десятки книг написаны? Это вроде как у нас на стройке тайное общество было. Три парня стройматериалы с площадки коммуниздили и на сторону продавали, а нам, чтобы молчали, каждый день выпивку ставили. Прорабу, правда, деньгами отдавали…
– Накрыли их?
– Не-е… До сих пор коммуниздят!
– Ну вот, – кивнул я, – а ты про масонов удивляешься. То же самое… И ты на меня, Витек, не злись! Увы, путь к славе вымощен дерьмом. Но победа не пахнет! Ради этого стоит потерпеть. А я со своей стороны обещаю: старушек больше не будет. Договорились?
– О’кей – сказал Патрикей! Я пошел спать.
– А мне еще поработать надо…
Но ни спать, ни работать нам не пришлось: в двадцать минут первого позвонил Одуев и сказал, что я должен срочно приехать к нему домой, что у него намечается редкостная ночь поэзии и чтоб я обязательно прихватил с собой «этого с кубиком Рубика и романом «В чашу».
– А ты откуда знаешь?
– Вся Москва знает. Жду с содроганием!
Я растолкал Витька и объяснил, что мы едем в гости.
– Ты охренел – в такое время! – возмутился он, зевая во все лицо.
– У писателей жизнь только начинается. Привыкай! И прими душ – ты ведь в стиральном порошке.
Виктор, пошатываясь и налетая на мебель, пошел в ванную, и я, видя его такое беспробудное состояние, на всякий случай сунул в портфель, кроме папки с романом, еще и бутылку с остатками «амораловки».
17. Ночь поэзии
Родители Одуева в ту пору трудились уже в Америке, очень тосковали по Родине, но о неизбежном, как смерть, возвращении в Москву думали с ужасом. С еще большим ужасом думал об этом сам Одуев. Видеомагнитофона, правда, уже не было – его все-таки украли. Зато на покрытом реликтовой пылью столе стоял компьютер – большая диковинка в те времена.
Одуев прямо на пороге обнял меня и расцеловал. То же самое он проделал с Витьком, но при этом несколько раз чихнул из-за простынной свежести, исходившей от моего воспитанника.
– Молодцы, что приехали! Пошли, с людьми познакомлю!
В комнате двое мужчин азартно колотили по клавишам компьютера. Игра была незамысловатая: возникавший то в одном, то в другом месте экрана удав жрал кроликов, и задача состояла в том, чтобы уберечь от него как можно больше ушастых бедолаг. Если это удавалось, то на экране – в качестве поощрения – появлялось какое-то членистоногое и принималось с тем же энтузиазмом жрать беззащитных рыбешек. Задача же оставалась прежней.
Один из мужчин был мой давний знакомый Любин-Любченко, одетый, как всегда, в старенький кургузый костюмчик с галстуком необязательного цвета – такие обычно повязывают безымянным покойникам, когда хоронят их за казенный счет. (Запомнить!) Обтрепанные манжеты рубашки на несколько сантиметров высовывались из коротких рукавов, и казалось, у Любина-Любченко вместо рук – копыта. Дополнялось все это длинными немытыми волосами, ассирийской бородкой и, главное, замечательно алыми, улыбчиво-лоснящимися губами. Словно он только что съел намасленный блин и теперь удовлетворенно облизывается.
Второй гость был мне незнаком: лет тридцати пяти, тощ и многозначительно хмур. На самовязаном свитере бессмысленно синел ромбик выпускника технического вуза. Я почему-то сразу вспомнил один трамвайный эпизод. Подвыпивший, уже явно успевший несколько раз упасть гражданин настойчиво предлагал хорошо одетой интеллигентной гражданке безотлагательную и неутомимую любовь, а когда был отвергнут, начал громко кричать: «Я электротехникум закончил! А ты кто такая?» В конце концов его ссадили…
Оба мужчины неохотно оставили компьютер и встали нам навстречу.
– Любин-Любченко, теоретик поэзии! – представился Любин-Любченко и выпростал из манжеты маленькую сухую ручку.
– Виктор Акашин, прозаик, – ответил Витек с достоинством, именно так, как я и учил.
Теоретик нежно сжал Витькину лапу и, не отпуская, оглядел его, особенно почему-то задержавшись на пятнистых десантных штанах.
– Откуда вы такой? – облизнувшись, спросил он.
– Из фаллопиевых труб, – был ответ.
– Забавный юноша… А мы с вами нигде раньше не встречались? – спросил он, переводя глаза со штанов на доху.
– Вряд ли, Виктор в Москве недавно, – вмешался я.
– Может быть, мы встречались в прошлой жизни? – маслено улыбнулся теоретик.
– Трансцендентально, – буркнул Витек, покосившись на мой палец.
– Тер-Иванов, – хмуро представился второй и угрюмо добавил: – Практик поэзии.
– Акашин, автор романа «В чашу», – отрекомендовался ученый Витек.
– Вы модернист?
– Скорее нет, чем да, – ответил Витек согласно приказу.
– Модернистов презираю! – сказал Тер-Иванов.
– А постмодернистов? – уточнил я.
– Еще больше!
– Амбивалентно! – покосившись на мой палец, сказал Акашин.
– Подобное уничтожается подобным! – вздохнул Любин-Любченко и погладил узоры на Витькиной дохе.
В это время с кухни, неся блюда с бутербродами, появились две женщины. Одну из них я тоже знал. Это была Стелла Шлапоберская с телевидения, давняя подружка Одуева, от которой, как от осеннего гриппа, он никак не мог отвязаться. С ног до головы одетая во все кожаное, Стелла напоминала зачехленную вязальную машину. Она была коротко острижена (в пору моего детства такая стрижка называлась «полубокс»), а в ушах висели огромные серьги, похожие на елочные украшения. Вторая была совсем еще девочка, в школьной форме и с толстой русой косой. Это с ней несколько дней назад Одуев ужинал в ЦДЛ.
– Настя, поэт, – представил он девочку, и она смущенно протянула розовенькую ручку с чернильным пятнышком на среднем пальчике.
– А я – просто Стелла, – сказала Шлапоберская и поцеловала обалдевшего Витька прямо в губы. – От вас пахнет мужской чистотой!
– Вестимо, – самостоятельно отозвался Витек и покраснел, видимо, вспомнив о своем купании в стиральном порошке.
– Не смущайте молодого человека! – ревниво облизнулся Любин-Любченко и, взяв Витька под руку, повлек к дивану, усадил и пристроился рядом.
Стелла мгновение постояла в растерянности, потом решительно подошла к дивану и села, прижавшись к Витьку с другой стороны.
– Содержание алкоголя в крови упало до смертельного уровня! – крикнул Одуев и вытащил из-под стола две бутылки крепленого вина, которое тут же и разлил в разнокалиберные чайные чашки.
– За поэзию! – провозгласил он.
– Хотите на брудершафт? – спросила Стелла Витька, не дожидаясь ответа, просунула свою чашку под его руку и выпила. – Пейте!
Акашин, неуклюже изогнувшись, выпил. И тут же был жадно поцелован Стеллой в губы. Чуть отхлебнув вина, Любин-Любченко заботливо поднес Витьку бутерброд. Настя опрокинула свою чашку резко и зажмурив глаза, точно запивала анальгин.
– Как вы относитесь к «ящику»? – заглядывая Акашину в глаза, спросила Стелла.
– Чего?
– К телевидению, – пояснила она. – Я его ненавижу!
– Телевидение – Молох, питающийся человеческими мозгами! А вы, Стелла, его неумолимая жрица! – многозначительно сказал Любин-Любченко и погладил руку оторопевшего Витька.
Одуев еще раз налил всем вина, заставил выпить уже без всякого тоста, потом подошел к Насте, поцеловал ее в тонкую беззащитную шею и приказал:
– Читай!
– Что? – жалобно спросила она.
– «Колонну».
Настя обхватила себя нервно подрагивающими руками, откинула голову и низким, завывающим голосом начала:
Томит одинокое лоно,И зябко раздетым плечам:Дорическая колоннаМерещится мне по ночам…Когда она закончила, Одуев глянул на нас с той гордостью, какая бывает у хозяина, когда его любимая собака на глазах у гостей подает лапу по первой же команде.
– Высказывайтесь!
Все почему-то посмотрели на Витька, а тот скосил глаза на мои пальцы и произнес:
– Ментально.
– Какая вы еще наивная, Настенька! – вздохнула Стелла и положила свою стриженую голову на плечо моего воспитанника.
– Пластмассовые кружева, – рявкнул Тер-Иванов и закурил вонючую «Приму».
– Ну почему сразу – пластмассовые! – заступился я. – Совсем даже не пластмассовые… Это имеет право на существование.
Теперь все посмотрели на Любина-Любченко, он некоторое время в задумчивости теребил акашинский мизинец, потом заговорил:
– Да… Наверное… Вы, деточка, просто лапочка! Это, конечно же, возрастное. Дело в том, что одиночная колонна означает «мировую ось». Это космический символ. Но она может иметь и чисто эндопатическое значение, определяемое направленным вверх символом самоутверждения. Вам восемнадцать?
– Шестнадцать, – поправила она.
– Ах, даже так! – облизнулся Любин-Любченко и посмотрел на Одуева с беспокойным удивлением. – Тем не менее тут присутствует, без всякого сомнения, и фаллический символ. Древние приписывали Церере колонну как символ любви. Кроме того, древние считали колонну проекцией позвоночного столба, ибо позвоночный столб тоже знак мировой оси… Вы на уроках, Настенька, не сутулитесь за партой?
– Нет… Раньше сутулилась, а теперь уже нет.
– Ну и славненько.
– Почему же дорическая, а не ионическая или, скажем, коринфская? – полюбопытствовал я.
– Да, в самом деле? – кокетливо подхватила Стелла, поправляя Витьку уимблдонскую повязку.
– Стеллочка, – маслено улыбнувшись, произнес Любин-Любченко с тонкой издевкой. – Если вы в вашем возрасте этого не поняли, то вам лучше не беспокоить мужчин.
Сказав это, он попытался полностью завладеть акашинскими пальцами, но мой гений испуганно отдернул руку.
– А я не у вас, я у Насти спрашиваю! – огрызнулась Стелла.
– Не знаю. Я так чувствую… – растерянно объяснила девочка.
– Правильно, лапочка, правильно вы чувствуете! – успокоил Любин-Любченко и многозначительно посмотрел на Одуева.
Тот снова налил всем вина и предложил выпить за Настю.
– Вы любите Ахматову? – чокаясь с ней, спросил я.
– Не очень. Она так и не сумела переплавить оргазм в поэзию!
– А Цветаеву?
– Нет. Она так и не сумела переплавить поэзию в оргазм.
Теперь уже я посмотрел на Одуева с уважением. Тот удовлетворенно засмеялся и снова поцеловал девочку в шею. В это время хмурый Тер-Иванов молча встал, вышел на середину комнаты, заложил руки за спину и, раскачиваясь, как конькобежец, начал без всякого предупреждения:
Шур-шур, тук-тук,Крысы бегут с корабля,Скучно матросам без крыс,Шур-шур-шур-шур,Тук-тук-тук-тук.Закончив, он так же решительно вернулся на свое место, прыгающими руками достал из кармана пачку «Примы» и снова закурил. Все посмотрели на Акашина, а он на мой дрогнувший левый указательный.
– Скорее нет, чем да!
Услышав это, Тер-Иванов нахмурился и затянулся с такой силой, что сигарета затрещала и брызнула искрами, как бенгальский огонь.
– А мне кажется, что-то есть! – вступилась Настя. И это понятно: любой поэт после похвал становится добрее к чужим стихам, даже очень плохим.
– Брр! – сообщила Стелла и подергала обомлевшего Акашина за ухо.
– А почему сразу «брр»? Это имеет право на существование! – Я решил подбодрить автора.
Теперь была очередь Любина-Любченко, который как бы невзначай перенес сферу своих интересов с руки моего несчастного воспитанника на его колено.
– Что ж вы изменяете верлибру с белым стихом? – попенял теоретик, облизываясь.
– Я не изменяю! – огрызнулся поэт-практик.
Он побурел, достал новую сигарету и прикурил прямо от предыдущей. В глазах его засветилась та тоскливая ненависть, какая бывает только у поэтов, когда ругают их стихи.
– Поэта надо судить по его собственным законам! – выдавил Тер-Иванов из себя вместе со струей сизого дыма.
– Не кипятитесь, – примирительно улыбнулся Любин-Любченко. – Я вам не судья. Но давайте порассуждаем: крыса – злое божество в Древнем Египте. Побег может означать освобождение… Согласны? Фаллический символ крысы означает отвратительное в сексе…
– Я же говорила! – обрадовалась Стелла и нежно взлохматила и без того после порошка торчащие в разные стороны Витькины волосы.
– Вы мне очень мешаете, Стеллочка! – раздраженно сказал Любин-Любченко. (И это была чистая правда!) – Теперь о корабле. Я бы на вашем месте остерегся делать такие смелые политические заявления, ведь плавание корабля с точки зрения любой философии абсолюта отрицает возможность возвращения. К примеру, корабль дураков выражает идею самого плавания без всякой цели… А если мы продолжим вашу мысль и уподобим матросов народу, к тому же скучающему без крыс… Без грязного, скотского в сексе… Вы это хотели сказать?
– Нет! – скрипнув зубами, отозвался Тер-Иванов.
– Может быть! Очень даже может быть. Но каков текст – таков контекст!
Все посмотрели на автора злополучного стихотворения с состраданием, и лишь Одуев – с предвкушением.
– Нет, я имел в виду другое… – пояснил Тер-Иванов. – Я как поэт-практик… – Он заволновался и полез за новой сигаретой.
– Да вы не волнуйтесь! – успокоительно облизнулся Любин-Любченко. – Вполне возможно, корабль у вас входит в традиционную систему символов, обозначающих мировую ось, а мачта в центре выражает идею Космического древа…
– А если трактовать мачту как фаллический символ? – спросила Настя.
– Какая умненькая лапочка! – улыбнулся теоретик. – Конечно, не исключено… Но в таком случае корабль с мачтой, символизирующей фаллос, можно трактовать как полную безнадежность на сексуальную взаимность…
– Какой вы догадливый! – обидно захохотала Стелла и, полноценно обняв бедного Витька, потянула его на себя.
– Вы тоже так считаете, Виктор? – огорченно облизнувшись, спросил Любин-Любченко.
Я по рассеянности выставил левый безымянный, означавший «отнюдь». Акашин некоторое время смотрел на него с недоумением, а потом самочинно сказал:
– Вестимо.
– Для гения вы слишком большое значение придаете условностям! – покачал головой Любин-Любченко.
– Гении – волы, – снова самостоятельно буркнул потерявший управление Витек.
Сделав ему страшные глаза, я, чтобы сменить тему, попросил почитать свои стихи хозяина, славившегося в литературных кругах самой крутой «чернухой», за которую другого бы давно уже привлекли.
– Не боитесь? – игриво спросил Одуев.
– Пуганые! – зло ответил раздраконенный Тер-Иванов.
– Ну тогда слушайте! – Одуев подмигнул Насте и задекламировал:
Наш хлеб духмяней, наш кумач алее!Шагаю вдоль Кремля, е…а мать,И хочется на угол МавзолеяМне лапку по-собачьему задрать…Настя ответила ему горящим взором, исполненным беззаветного восхищения и жертвенной любви.
– Не задрать, а взорвать! – угрюмо поправил поэт-практик, нашедший наконец выход переполнявшей его обиде.
– Взорвать! – захохотал Одуев. – Взорвать, ты сказал?
– Он неудачно выразился! – заступился я.
– А что скажет теория? – спросил Одуев.
– Теория? Конечно… М-да… – Любин-Любченко осторожно облизнулся. – Собака – эмблема преданности. На средневековых надгробиях изображалась у ног женщины. Учтите, Настенька! В алхимии собака, терзаемая волком, олицетворяет очищение золота при помощи сурьмы. Это вы тоже учтите!
По слухам, Любин-Любченко три года провел в лагере за что-то противоестественное и был крайне осторожен в политической тематике.
– И это все? – разочарованно спросил Одуев.
– А что вы еще от меня хотите услышать? – в свою очередь удивился теоретик, предупредительно улыбаясь.
– Ну и ладно, – кивнул Одуев. – А теперь пусть Виктор прочтет нам что-нибудь из своего романа.
– Я? – оторопел Витек.
– Читай! Давно не слушал гения! – злобно потребовал Тер-Иванов, предвкушая скорую расправу над Акашиным.
– Пожалуйста! – попросила Стелла, обвиваясь вокруг Витька, как кожаная лиана.
Я сделал пальцами «рожки».
– Не варите козленка в молоке матери его! – ответил Витек.
– А вы непростой юноша! – горестно облизнулся Любин-Любченко и глянул на Акашина с ласковой безнадежностью.
– Нет, пусть читает! – настаивал Тер-Иванов. – Нечего козлятами нам зубы заговаривать!
– А что он такого сказал? – спросила Настя.

