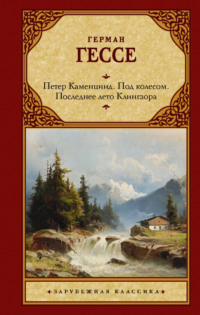
Петер Каменцинд. Под колесом. Последнее лето Клингзора. Душа ребенка. Клейн и Вагнер
И тогда во мне шевельнулось предчувствие, что жизнь пока что одарила меня лишь ленивым прищуром, ни разу не удостоив открытого взора, что где-то за пределами моего крохотного мирка, быть может, рождаются и рушатся горы и происходят другие великие события, весть о которых никогда даже не коснется легким крылом нашего глухого горного захолустья. И в то же время во мне что-то задрожало, подобно стрелке компаса, и жадно потянулось к этой великой дали. Лишь теперь мне до конца стали понятны красота и тоска облаков, когда я увидел, по каким бесконечным просторам совершали они свои странствия.
Оба моих взрослых спутника, устроившись отдохнуть на ледяной верхушке, похвалили меня за ловкость и терпение во время подъема и добродушно посмеялись над моей безудержной радостью. Я же, едва оправившись от изумления, испустил торжествующий вопль, словно вырвавшийся на свободу молодой бык, весь дрожа от возбуждения. Это была моя первая, нечленораздельная песнь красоте. Я ожидал услышать в ответ могучее эхо, но крик мой бесследно канул в невозмутимые выси, как слабый птичий пересвист. Смутившись, я пристыженно смолк.
Этот день словно растопил какой-то лед в моей жизни. Ибо с тех пор одно событие опережало другое. Вначале меня стали брать с собой во всякие поездки по горам, даже в самые тяжелые, и я со странным, щемящим сладострастием проникал в великие тайны горнего царства. Потом мне доверили пасти деревенских коз. На одном из склонов, куда я гонял своих четвероногих, я облюбовал себе защищенный от ветра уголок, сплошь заросший синей горечавкой и красной камнеломкой. Это было мое самое любимое место на всем белом свете. Деревня оттуда была не видна, да и озеро тоже заслоняли скалы, оставляя лишь узкую блестящую полоску, зато там жарко горели цветы, брызжа в глаза своими смеющимися, сочными красками; синее небо, словно крыша шатра, покоилось на остроконечных белоснежных вершинах, а нежный перезвон козьих колокольцев мелодично вплетался в несмолкающее лопотание недалекого водопада. Я лежал на солнце, без устали дивясь на плывущие мимо белые облака и напевая вполголоса йодлеры, пока козы, поощряемые бездеятельностью разомлевшего пастыря, не принимались за свои дерзкие проделки и недозволенные игры. Сия феакийская идиллия кончилась после первых же двух-трех недель, едва успев начаться, когда я вместе с отбившейся от стада козой сорвался в глубокую расселину. Коза разбилась насмерть, а моя голова изобиловала шишками и ссадинами; вдобавок ко всему меня нещадно выпороли, из-за чего я удрал из дома, но был, однако, вскоре с причитаниями и увещеваниями возвращен под отчий кров.
Эти первые приключения мои вполне могли бы стать и последними. Я был бы таким образом избавлен от множества хлопот и глупостей, а книжечка эта осталась бы ненаписанной. Рано или поздно я, вероятно, женился бы на какой-нибудь кузине, а может, лежал бы где-нибудь в горах, вмерзшим в ледник. Что, впрочем, тоже было бы не так уж и плохо. Все, однако, обернулось иначе, и не пристало мне сравнивать былое с небылым.
Отец мой хаживал в ту пору на приработки в Вельсдёрфский монастырь. Как-то раз, прихворнув, он велел мне сходить туда и предупредить монахов о том, что он занемог. Я же вместо этого одолжил у соседа перо и бумагу, написал монахам учтивое письмо, вручил его почтальонше, а сам тайком от всех отправился в горы.
На следующей неделе, воротившись в один прекрасный вечер домой, я застал в горнице патера, дожидавшегося автора изящного послания. Сердце мое тревожно сжалось, но он похвалил меня и стал уговаривать отца определить меня к нему в ученье. Обратились за советом к дядюшке Конраду, как раз только что вышедшему из опалы. Тот, конечно же, не задумываясь, с жаром ухватился за мысль о том, что, поучившись, я поступлю в университет и стану ученым и настоящим господином. Отец в конце концов согласился, и в числе опасных дядюшкиных проектов, вроде парусника, противопожарного устройства печи и множества других подобных причуд, таким образом оказалось и мое будущее.
Учение мое началось незамедлительно и с небывалым размахом, особенно по части латыни, священной истории, ботаники и географии.
Мне все это доставляло немало удовольствия, и я, конечно, далек был от мысли о том, что весь этот чужеземный вздор, возможно, будет стоить мне родины и лучших лет жизни. Ведь одной латыни было недостаточно: отец все равно сделал бы из меня крестьянина, даже если бы я наизусть вызубрил всех этих viri illustres[2] сверху вниз и снизу вверх. Но умный старик ухитрился проникнуть пытливым взглядом на самое дно моего существа, туда, где коренилась моя основная доблесть и опора – непобедимая лень. Я пускался на любые уловки, чтобы уклониться от работы, а добившись своего, убегал в горы, на озеро или, спрятавшись где-нибудь в траве, на солнечном склоне, читал, грезил, а то и просто бездельничал. В конце концов, убедившись в бесплодности своих усилий, отец махнул на меня рукой.
Здесь мне, пожалуй, удобнее всего будет сказать несколько слов о родителях. Мать моя когда-то была красива, но от красы ее остались лишь крепкая, стройная фигура и очаровательные темные глаза. Она была женщиной высокой, сильной, работящей и молчаливой. Несмотря на то, что по уму она ничуть не уступала отцу, а силою даже превосходила его, она никогда не стремилась властвовать в доме, а предоставила бразды правления мужу. Отец же был среднего роста, хрупкого, почти нежного сложения, обладал живым, сметливым умом и упрямым характером; светлое лицо его было сплошь покрыто крохотными, необычайно подвижными морщинками, а на лбу красовалась короткая вертикальная складка. Она темнела, когда он шевелил бровями, и придавала его лицу страдальческое выражение; казалось, будто он старается припомнить что-то очень важное и уже отчаялся напасть на след нужной мысли. При желании можно было обнаружить в нем некоторые признаки меланхолии, но никто не обращал на это внимания, так как нрав людей в наших краях словно подернут легкой, мутной поволокой, причины которой – долгие зимы, опасности, непрерывная, изнуряющая забота о хлебе насущном и оторванность от большой жизни.
От обоих родителей я унаследовал существенные черты моей натуры. От матери скромную житейскую мудрость, добрую порцию доверия к Богу и тихий, молчаливый характер. От отца же – страх перед важными решениями, неспособность мудро распоряжаться деньгами и искусство обильных и обстоятельных возлияний. Последнее пока что еще не давало о себе знать в том нежном возрасте. От внешности отца мне достались глаза и рот, от матери – тяжелая, выносливая походка, крепкое сложение и неуемная сила. Отец и вообще вся наша порода наделили меня крестьянским, смекалистым умом, но в придачу я получил и сумрачный нрав вместе со склонностью к беспричинной тоске. Поскольку мне суждено было долго скитаться вдали от родины, среди чужих людей, было бы весьма недурно вместо этого взять с собой в дорогу некоторую подвижность и немного веселого легкомыслия.
Снаряженный всем перечисленным и одетый в новое платье, пустился я в свое странствие по жизни. Родительские дары были мне надежным посохом, ибо с той поры я шагал своею собственной дорогой. И все-таки чего-то мне, похоже, недоставало, чего мне так и не дали ни науки, ни большая жизнь. Я и по сей день могу осилить любую гору, десять часов кряду без устали шагать или грести, а если понадобится, то у меня достанет силы убить человека голыми руками, – но искусство жизни, как прежде, так и сейчас, остается для меня недоступным. Мое раннее, одностороннее общение с природой, ее растениями и животными мало способствовало развитию во мне социальных навыков, и сновидения мои до сих пор служат мне странным доказательством моей прискорбной склонности к жизни чисто животной. Мне часто видится во сне, будто я лежу на морском берегу неким животным, чаще всего тюленем, и испытываю при этом столь острое блаженство, что, пробудившись, я вместо радости или гордости за вновь обретенную человеческую ипостась чувствую лишь разочарование.
Я получил обыкновенное воспитание в гимназии, пользуясь правом бесплатного обучения и питания, и должен был стать филологом. Неизвестно почему. Вряд ли найдется более никчемный, более скучный и чуждый мне предмет.
Годы ученичества быстро летели один за другим.
Промежутки между рукопашными битвами и гимназией заполняли тоска по дому, дерзкие мечты о будущем и благоговейное поклонение науке. А в самую сердцевину этих гимназических будней нет-нет да и прокрадывалась моя врожденная лень и приносила мне немало наказаний и неприятностей, пока ее не вытеснял очередной подъем энтузиазма.
– Петер Каменцинд, – говорил мой учитель греческого, – ты твердолобый упрямец и нелюдим и набьешь себе на своем веку еще немало шишек.
Я молча разглядывал жирного очкарика, слушая его речи, и находил его смешным.
– Петер Каменцинд, – говорил учитель математики, – ты гениальный лодырь, и я сожалею, что нет более низкой отметки, чем «нуль». Я оцениваю твои сегодняшние успехи на минус два с половиной.
Я смотрел на него с жалостью, потому что он страдал косоглазием, и находил его скучным.
– Петер Каменцинд, – сказал однажды профессор истории, – ты скверный ученик, но когда-нибудь ты все же станешь историком. Ибо ты ленив, но умеешь отличать великое от ничтожного.
Однако и это не произвело на меня особого впечатления. И вместе с тем учителя внушали мне уважение, ибо я считал их наместниками науки, а перед наукой я испытывал жгучий, священный трепет. И хотя мнение учителей о моей лени было единым, я все же успевал по всем предметам и ровно держался где-то чуть выше середнячков. То, что гимназия и гимназическая наука были только первыми шагами, преддверием, мне было ясно; я ждал того, что будет потом. За этими приготовлениями, за всем этим школярством я надеялся обнаружить мир чистой духовности, неоспоримую, уверенную в своих силах науку, ведущую к истине. Тогда-то, думал я, мне и откроется тайный смысл сумрачных дебрей истории, битв народов и робкого, вопросительного ожидания каждой отдельной души.
Еще сильней и живее была другая моя страсть. Мне очень хотелось иметь друга.
Среди гимназистов я приметил одного темноволосого серьезного мальчика, на два года старше меня, по имени Каспар Хаури. Он отличался от других степенностью, уверенными, мягкими манерами, по-мужски твердой посадкой головы и молчаливостью. Я месяцами почтительно взирал на него снизу вверх, всюду ходил за ним следом, движимый страстной надеждой, что он наконец заметит меня. Я ревновал его к каждому прохожему, с которым он здоровался, и к каждому дому, в который он входил или из которого неожиданно появлялся. Но я был двумя классами младше его, а он, по-видимому, даже перед своими сверстниками чувствовал свое превосходство. Мы ни разу даже не обмолвились ни единым словом.
Вместо него ко мне привязался, без каких-либо знаков расположения с моей стороны, один маленький, болезненный мальчик. Он был младше меня, робок, лишен каких бы то ни было талантов, но привлекал к себе красивыми, грустными глазами и тонкими, страдальческими чертами лица. Поскольку он был тщедушен и слегка горбат, на долю его выпадало немало обид и насмешек, и он искал защиты у меня, сильного и уважаемого. Вскоре он серьезно заболел и больше уже не мог посещать школу. Я нисколько не тяготился его отсутствием, а скоро и совсем забыл про него.
Был в нашем классе белокурый весельчак, мастер на все руки, музыкант, лицедей и паяц. Дружба его досталась мне не без труда, и этот маленький бойкий приятель мой всегда относился ко мне слегка покровительственно. Но как бы то ни было, у меня наконец-то появился друг. Я изредка навещал его, прочел вместе с ним в его маленькой комнатке несколько книг, выполнял за него задания по греческому, а он помогал мне за это по арифметике. Иногда мы вместе отправлялись гулять и, должно быть, выглядели при этом как медведь и заяц. Он болтал, веселился, острил и никогда не терялся, а я слушал, смеялся и радовался, что у меня такой бесшабашный друг.
Но вот однажды после обеда я неожиданно стал свидетелем очередного веселого представления этого маленького паяца, которыми он часто развлекал товарищей. Стоя в вестибюле гимназии, в кругу зрителей, он только что передразнил одного из учителей и задорно воскликнул:
– А теперь угадайте-ка, кто это!
Он громким голосом прочел несколько стихов из Гомера. При этом он с поразительной точностью копировал меня, мою смущенную позу, мою робкую манеру чтения, мое грубоватое горское произношение и мое характерное выражение сосредоточенности – частое моргание и прищуривание левого глаза. Все это и в самом деле выглядело очень забавно и было передано с безжалостной язвительностью. Когда он, захлопнув книжку, самодовольно внимал заслуженным овациям, я подошел к нему сзади и совершил акт возмездия. Слов у меня не нашлось; все свое негодование, весь стыд и гнев я достаточно красноречиво выразил в одной-единственной сокрушительной оплеухе. Сразу же после этого начался урок, и учитель заметил хныканье и красную, опухшую щеку моего бывшего друга, который к тому же был его любимчиком.
– Кто это тебя так отделал?
– Каменцинд.
– Каменцинд, к доске! Это правда?
– Правда.
– За что ты ударил его?
Ответа не последовало.
– Ты сделал это без всякой причины?
– Да.
Я немедленно подвергся суровой экзекуции, стоически упиваясь блаженством безвинного мученичества. Но так как я не был ни стоиком, ни святым, а был всего лишь мальчишкой-школьником, я после вынесенной кары яростно показал своему врагу язык. Учитель, приведенный этой выходкой в ужас, возмутился:
– Как тебе не совестно! Что это значит?
– Это значит, что вон тот – подлец и что я его презираю. А еще он – трус.
Так закончилась моя дружба с лицедеем. Преемника ему так и не нашлось, и годы отрочества, в пору близящейся зрелости, я провел в одиночестве. И хотя жизненные воззрения мои и отношение к людям с тех пор не раз изменились, ту пощечину я всегда вспоминаю с глубоким удовлетворением. Надеюсь, что и тот белокурый шутник ее тоже не забыл.
Семнадцати лет я влюбился в дочь адвоката. Она была очень хороша собою, и я горжусь тем, что всю свою жизнь влюблялся только в записных красавиц. О муках, выпавших мне на долю из-за нее и из-за других женщин, я расскажу в другой раз. Ее звали Рози Гиртаннер. Она и сегодня еще достойна любви и не таких мужчин, как я.
В то время во мне кипела молодая нерастраченная сила. Я ввязывался вместе со своими товарищами в самые грозные кулачные бои, гордился своей славой первого силача, игрока в мяч, бегуна и гребца, но при всем этом постоянною спутницей моей была тоска. Едва ли это связано было с моею влюбленностью. Это была просто сладостная предвесенняя тоска, которая охватывала меня сильнее, нежели моих сверстников, так что я находил болезненную отраду в печальных грезах, в мыслях о смерти и в пессимистических идеях. И конечно же, нашелся товарищ, одолживший мне «Книгу песен» Гейне в дешевом издании. Это было, собственно, уже не чтение – я попросту вливал свое растаявшее сердце в пустые строки, я страдал вместе с героями, я творил вместе с автором и впадал в лирическую мечтательность, которая, вероятно, в такой же степени подходила к моему облику, в какой манишка подходит поросенку. До этого я не имел ни малейшего представления об «изящной словесности». За Гейне последовали Ленау, Шиллер, затем Гёте и Шекспир, и бледный призрак литературы вдруг превратился для меня в горячо почитаемое божество.
Со сладким трепетом ощущал я исходившее от страниц этих книг прохладное, пряное дыхание жизни, вечно чуждой подлунному миру и в то же время истинно сущей, волны которой докатились и до моего растроганного сердца, населив его ее удивительными судьбами. В крохотной мансарде, где я неутомимо предавался чтению и куда доносился лишь бой часов с близлежащей колокольни да сухой перестук аистов на крыше, прочно обосновались герои Шекспира и Гёте. Мне открылась божественно-комическая суть человека, загадка его противоречивого, неукротимого сердца, глубокая сущность мировой истории и великое чудо духа, преображающего короткий человеческий век и силою познания возносящего скудное бытие наше на престол необходимого и вечного. Просунув голову в маленькое окошко, я, словно впервые, видел залитые солнцем крыши и узкие улочки, слышал незатейливые звуки труда и повседневной суеты, которые, сливаясь друг с другом, напоминали мерный шорох прибоя, и еще острее ощущал таинственную отрешенность моей населенной величавыми призраками мансарды, словно вдруг переносился в некую прекрасную, волшебную сказку. И чем больше я читал, чем более удивительным и чуждым становился для меня этот вид из окна – эти крыши, переулки и суета будничной жизни, – тем чаще рождалось во мне робкое, стесняющее грудь ощущение: быть может, я наделен даром ясновидения и раскинувшийся предо мною мир ждет, что я открою часть его сокровищ, совлеку с них покров случайного и обыденного и силою поэзии вырву найденное богатство из лап смерти.
Я начал стыдливо, нерешительно сочинительствовать, и постепенно несколько тетрадей заполнились стихами, набросками и коротенькими рассказами. Они не сохранились, да и были, вероятно, отнюдь не шедеврами, хотя и принесли мне немало волнений и тайного блаженства. Критика и трезвая самооценка последовали за этими первыми поэтическими опытами лишь спустя некоторое время, а неизбежное первое, большое разочарование настигло меня уже в последний год учебы. Я уже отрекся от многих своих литературных первенцев и вообще смотрел на свою писанину с возрастающим недоверием, когда в руки мне случайно попалось несколько томиков Готфрида Келлера, которые я тотчас же прочел – и два, и три раза подряд. И тут, озаренный внезапным прозрением, я понял, как далеки были мои незрелые фантазии от настоящего, аскетически строгого, истинного искусства, сжег свои стихи и рассказы и, превозмогая жестокие муки похмелья, трезво и печально взглянул на жизнь.
2Если говорить о любви, то тут я так и остался на всю жизнь недорослем. Любовь к женщине для меня есть некий очищающий культ, упругое пламя, воспылавшее из туманности моей тоскующей души, руки, в молитве воздетые к сияющим небесам. Под наитием чувств, связывавших меня с матерью, и своих собственных, неизъяснимых чувств я почитал всех женщин как некий чуждый нам, прекрасный и загадочный род, превосходящий нас врожденною красотой и цельностью души, к которому нам надлежит относиться с благоговением, ибо он, подобно небесным светилам и голубым горным высям, бесконечно далек от нас, а стало быть, ближе к Богу. Поскольку, однако, суровая жизнь и тут всегда оставляла за собой последнее слово, то от женской любви мне доставалось больше горечи, чем сладости; правда, женщины неизменно оставались на своих пьедесталах, моя же торжественная роль коленопреклоненного жреца с необыкновенной легкостью превращалась в постыдно-комическую роль одураченного шута.
Рози Гиртаннер я встречал почти каждый день по дороге в гимназическую столовую. Это была девица семнадцати лет, с ладною, гибкою фигурой. Узкое, нежно-смуглое лицо ее дышало тихой одухотворенной красотой, которую еще не утратила с возрастом и ее мать и которая досталась обеим по наследству от бабок и прабабок. Этот старинный, знатный и обласканный судьбою род взрастил, поколение за поколением, целую плеяду необыкновенных женщин, кротких, отмеченных изысканным благородством и наделенных свежей, безупречной красотой. Есть портрет молоденькой девушки из семейства Фуггеров, написанный в шестнадцатом веке неизвестным мастером, одна из удивительнейших картин, когда-либо попадавшихся мне на глаза. Такими приблизительно и были гиртаннерские женщины; такою же была и Рози.
Всего этого я тогда, конечно, еще не знал. Я только видел, как она идет по улице, исполненная кроткого достоинства, и упивался скромным благородством ее светлого облика. Всякий раз после этого я долго сидел в сумерках, упорно пытаясь отчетливо представить себе ее образ, и, когда мне это наконец удавалось, мальчишечья душа моя сладко сжималась и словно покрывалась гусиною кожей. Однако вскоре эти мгновения блаженства были омрачены, а затем и вовсе обратились в жестокие муки.
Я осознал вдруг, что я чужой для нее, что она не знает меня и никогда не спросит обо мне и что в радужных грезах своих я уподобляюсь вору, тайно крадущему эту благословенную красу. И именно в те минуты, когда я ощущал это особенно остро и болезненно, образ ее представал перед мысленным взором моим с такою яркостью, таким животрепещущим, что в груди моей вздымалась темная, горячая волна и, затопив сердце, разливалась по жилам нестерпимым огнем.
Днем волна эта нередко настигала меня во время урока или в самый разгар кулачной битвы. И тогда я закрывал глаза, руки мои бессильно опускались, и мне казалось, будто я неудержимо скольжу в некую теплую бездну, пока голос учителя или удар противника не приводил меня в чувство. Я тотчас уединялся, выбегал на улицу и, изумленный, весь во власти причудливых грез, не узнавал окружающий меня мир. Я словно впервые видел его красоту, многоцветье, видел, как свет и дыхание жизни пронизывают все предметы и вещи, видел прозрачную зелень реки и кирпичный румянец крыш, и горную синеву. Эта обступившая меня красота не могла, однако, рассеять моей тоски, я просто любовался ею с тихой печалью. Чем прекраснее была увиденная мною картина, тем отчужденней казалась она мне, стороннему зрителю, не имеющему к ней никакого отношения. Мои тягостные мысли вскоре пробивали себе дорогу сквозь эту картину обратно к Рози: если бы я умер сейчас, она не узнала бы этого, не спросила бы обо мне и не опечалилась бы моей смертью.
И все же я не испытывал потребности быть замеченным ею. Я готов бы совершить ради нее или подарить ей что-нибудь неслыханное и остаться в неизвестности.
И я и в самом деле совершил ради нее немало подвигов. В ту пору как раз начались короткие каникулы, и я был отправлен домой. Там я каждый день являл всевозможные чудеса отваги и ловкости, посвященные Рози. Я поднялся на одну из труднодоступных вершин по самому отвесному склону. Я совершал геройские путешествия по озеру в нашем челноке, проходя на веслах большие расстояния за короткий срок. Возвратившись как-то раз из одной такой поездки, изголодавшийся, с запекшимися от жажды губами, я вдруг неожиданно для себя самого принял решение до вечера не прикасаться ни к еде, ни к питью. Все ради Рози Гиртаннер. Я возносил ее имя и хвалебную песнь своего сердца на самые отдаленные хребты и не расставался с ними, спускаясь в самые угрюмые, избегаемые людьми ущелья.
Тем временем взращенная в четырех стенах гимназическая юность моя брала свое. Плечи мои широко развернулись, лицо и шея покрылись бронзовым загаром, и по всему телу раскатывались набухающие мускулы.
В предпоследний день каникул я возложил на алтарь моей любви букет цветов, добытых едва ли не ценою жизни. Я знал множество заманчивых склонов, где на узеньких лоскутах земли растут эдельвейсы, но эти болезненно-серебристые цветы без запаха и цвета всегда казались мне бездушными и малопривлекательными. Зато в одной из складок неприступной отвесной скалы, занесенная туда Бог весть каким ветром, одиноко цвела горстка альпийских роз, не менее заманчивых своею недостижимостью. Я должен был достать их! И так как для юности и любви ничего невозможного нет, я в конце концов достиг своей цели, с разодранными в кровь руками и дрожащими от судорожного напряжения ляжками. Для ликующих воплей положение мое было, пожалуй, слишком опасным, но сердце мое пело и плясало от радости, когда я, осторожно срезав жесткие стебли, держал в руках свою добычу. Вниз мне пришлось спускаться спиной к скале, держа цветы в зубах, и одному Богу известно, как я, дерзкий мальчишка, умудрился достичь подножия скалы целым и невредимым. Пора цветения альпийских роз давно миновала, мне достались последние в нынешнем году, еще покрытые почками веточки с нежно алеющими бутонами.
На следующий день я все пять часов своего железнодорожного путешествия не выпускал цветов из рук. Вначале сердце мое гулко колотилось и рвалось в город прекрасной Рози, однако чем больше отдалялось высокогорье, тем сильнее тянула меня обратно врожденная любовь к родным местам. Я по сей день отчетливо помню ту поездку! Зеннальпшток давно уже скрылся из виду; теперь, вершина за вершиной, с сосущей болью отрывая от моего сердца живые частички, опускались за горизонт зубчатые предгорья. И вот все с детства знакомые горные верхушки растворились вдали, и вслед им поплыл из-за спины широкий и низкий светло-зеленый ландшафт. Во время первой моей поездки я ко всему этому остался безучастен. В этот же раз мною овладели тревога, страх и печаль, словно некий судья приговорил меня к бесконечным странствиям по этим плоским землям и к безвозвратному лишению гор и гражданства родины. В то же время я постоянно видел перед собой прекрасное, узкое лицо Рози, такое тонкое, чужое, холодное и безучастное к моим терзаниям, что у меня от горечи и боли перехватило дыхание. За окном вагона проплывали одна за другой веселые, опрятные деревушки с белыми фасадами и стройными башенками церквей; люди входили и выходили, приветствовали друг друга, беседовали, смеялись и шутили, курили трубки и сигары – сплошь жизнерадостные обитатели равнин, прямодушные, ловкие, по-светски обходительные, – а я, неуклюжий увалень с гор, сидел среди них в немой печали, с ожесточенным лицом. Я чувствовал, что у меня больше нет родины. Я понял, что навсегда оторван от гор и что, однако, никогда не смогу стать таким же, как эти равнинные жители, таким жизнерадостным, таким ловким, таким гладким и уверенным в себе. Среди них всегда найдется кто-нибудь, кто посмеется надо мной, кто-то из них однажды женится на Гиртаннер, кто-то из них всегда будет стоять у меня на пути, всюду поспевая раньше меня.

