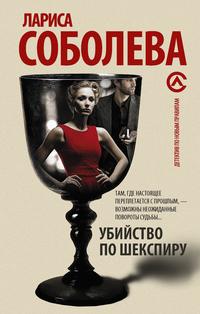
Убийство по Шекспиру
– Степан! – строго прикрикнул Куликовский. – Ты это брось!
– Что именно?
– В следственные органы потянуло? Брось, брось. Ты неплохой опер, можно сказать, хороший опер, вот и занимайся сыском. Это нужное дело, ответственное.
– Угу, поэтому вы вместо сыска приказываете разогнать бомжей?
– Так надо же еще найти их месторасположение, – лукаво улыбнулся Куликовский. – А это под силу лишь оперативнику. Не кисни, не кисни. Здесь работа творческая, можно сказать, а в следствии рутинная, одни бумажки составляют. Разве это интересно? Сам подумай. Даю тебе на все про все… недели хватит? Думаю, за неделю управишься. Помоги, Степа, гражданам города, это твой долг. А мы всегда отметим заслуги.
Ох и язвительно же прозвучало про долг! Степа поднялся, негодуя внутри на злодейку судьбу в образе Куликовского, подсунувшего бомжей, и пошел к двери.
– Стой! – приказал Семен Сергеевич. – Если так жаждешь помочь прокуратуре, то помогай. Но в свободное от работы время. А у тебя его не будет. Ступай.
Степа вышел из кабинета злющий как черт. Кулик о соседке печется! Ага, соседка. Да наверняка его пассию ограбили, потому и разозлился Кулик на несчастных бомжиков. Подумаешь, забрали сумочку! Людям тоже есть надо. А Степа теперь из-за пассии Кулика вынужден будет по помойкам ползать.
Во дворе управления стояли сыщики, курили и ржали, наверное, анекдоты травили. А впрочем, нет худа без добра. Как сказал Кулик: «Бери в помощь, кого хочешь»?
– Спасибо за идею, – усмехнулся он, так как идея родилась мгновенно.
Заречный с пристрастием отбирал из оперативников подходящую кандидатуру. Получил бы задание за маньяком гоняться, тогда бы и не думал отлынивать. Но ничего, теперь он в выигрыше окажется вдвойне. Если театральное дело попадет незнакомому следователю и тот откажется от его помощи, Степа отдохнет, совершит все запланированные мероприятия с Янкой. Это худший вариант. Знакомый же следователь от него не отмахнется, рад будет, что с ним пашет еще кто-то.
Остановил выбор на Косте Луценко. Парень что надо, правда, есть один существенный недостаток – молодой. Но это ничего, поправить можно. Степа насмотрелся в театре, как актеры меняют внешность, кажется, это не трудно. Подозвав его, отошел с ним в сторону и за дело:
– Так, Константин, тебе велено поступить в мое распоряжение. Кулик приказал. Поехали к тебе, следует провести психологическую подготовку, легенду состряпать, лицо подправить. Будем играть пьесу в моей постановке. Но сначала заедем в прокуратуру.
В прокуратуре заскочил к приятелю, кабинет был пуст. Степа нашел его в приемной, тот диктовал секретарше.
– Можно тебя на минуту? – подозвал. Когда вышли в коридор, спросил: – Кому дело по театру досталось?
– Точно не знаю, кажется, Волгиной.
– Да ты что! – воскликнул Степа. – Я пошел, извини.
Оставив в недоумении приятеля, рванул к Волгиной, в душе сомневаясь, что удастся столковаться. Она девчонка нормальная, в смысле вежливая. Только тщеславная, своенравная и высокомерная. Все доказать стремится, что трупы, убийцы и насильники по плечу слабому полу. Желание стать на одну ступень с мужчинами – не лучшая черта, а работа в прокуратуре вообще не женское дело. От этого милое создание грубеет, а оно должно облагораживать сильную половину человечества. Так нет, отпихивают мужиков от их законной деятельности!
Степа открыл дверь в кабинет. Тридцатилетняя Оксаночка с зеленовато-желтыми глазами рептилии, перед которыми замираешь, как кролик перед удавом, сидела за столом, изучая бумаги. Он отметил про себя, что в какой-то степени Куликовский прав: когда б ни пришел в прокуратуру, следователи в бумагах вязнут. Или это совпадения? Он спросил:
– Оксана, делом по театру ты занимаешься?
– Еще не занимаюсь. Дело не передали. Но буду заниматься. А что?
– У меня к тебе предложение. Я был вчера в театре, смерть видел собственными глазами, да и с Микулиным опрашивал свидетелей. Есть у меня кое-какие мысли. Ты не откажешься от моей помощи?
– Я-то не откажусь, – совсем неожиданно для Степы сказала она, отчего он мгновенно поменял о ней мнение. Волгина ему вдруг понравилась: такая симпатичная, почти красавица, очень умная. Тем временем Оксаночка скептически ухмыльнулась, что совсем не идет ей: – А тебе своей работы мало?
– Хватает, – в тон ей ответил Степа, подсаживаясь к столу. – Понимаешь, Оксана, зацепили меня эти артисты. Смотрю себе спектакль, сплю. Можно сказать, с удовольствием сплю. Вдруг артисты умирают! Я, классный опер, даже не догадался, что им и впрямь каюк. Кстати, разобраться будет не просто, я это вчера понял. Так ты согласна на помощь?
– Я что, больная? А какой с меня оброк возьмешь?
– Договоримся, – уклонился Степа, загадочно улыбаясь. – Я сначала подготовлю парня к операции, а позже заеду к тебе. Надеюсь, дело уже передадут. Идет?
– Ладно, жду.
Окрыленный Степа выбежал на улицу, где Луценко Костя слонялся по двору. В магазине купили три бутылки водки и десять пива, Степа поймал такси, и поехали домой. Костя живет в том же общежитии, где и Степа, в однокомнатной квартире гостиничного типа на восьмом этаже. Костя – аскет во всех смыслах. В его комнате нет ни одной лишней вещи, он лучший стрелок, занимается подводным плаванием, коллекционирует монеты и знает о них все-все. То, что он хороший товарищ, с которым не страшно в разведку идти, об этом и говорить не стоит. И – о горе! – не пьет. Менты пьют, это не новость, но то, что пьют поголовно все, – тоже преувеличение.
– Так, – сказал Степа, выставляя на стол, к ужасу Кости, бутылки, – готовимся к операции под названием «бомжик». Мобильник есть? Звони всем знакомым, сообщай, что на неделю уедешь из города по очень важному делу.
Костя обзванивал знакомых, а Степа изучил содержимое холодильника. Не густо в нем: сыр, колбаса, консервы, кефир – в общем, холостяцкая еда. Ну, это даже к лучшему, меньше есть будет. Степа вскрыл банку рыбных консервов. На кусочек хлеба положил шпротину, подумал немного и полил маслом хлеб.
– Об операции ни одна живая душа знать не должна, даже сослуживцы, понял? – сказал Косте. – Дело серьезное и опасное…
– Да объясни толком, что я должен делать? – вскипел Луценко, с подозрением глядя на приготовления.
– Бомжом стать. Перво-наперво предстоит исправить твою благообразную внешность. У тебя не лицо должно быть, а рожа. – Костя пожал плечами. Степа пояснил: – Два дня ты пьешь запоем. Просыпаешься, хочешь попить водички, но пьешь пиво. Потом водку. Затем опять пиво. И старайся поменьше закусывать. Через два дня твоя физия приобретет отечный вид алкаша. Понятно?
– Понятно, – без душевного подъема вымолвил Костя, покосившись на стол, заставленный бутылками. – Не многовато для одного?
– Ты крепкий, – успокоил Степа. – Так, есть еще одна вещь… Костя, одного опухшего вида мало.
– А что надо? – нахохлился Костя, подозревая со стороны Степы каверзу.
– Скажи, тебя по зубам били?
– И я бил, – на всякий случай предупредил Луценко.
– Значит, ты в курсе, что это не так страшно…
– Ну, в курсе и что? Чего ты хочешь конкретно?
– По лицу тебя ударить, – наконец выложил Степа. Косте такой поворот совсем не понравился, он замахал руками, дескать, не дамся. – Слушай, где ты видел бомжа с непобитой рожей? Ну хоть одна ссадина должна быть. Да я только раз… всего-то.
– Ага, не ты же морду подставлять будешь!
– Не выполним задание, Кулик с нас три шкуры сдерет, – аргументировал Степа. – Так что давай, стой спокойно…
– Тогда я сначала выпью. А то на трезвую голову…
– Выпей, – обрадовался Степа, наливая в тонкий стакан водки. Костя взял стакан, где водки было больше половины, задержал его у рта – не хотелось пить сразу столько. Степа подбодрил: – Давай, это классная анестезия.
Луценко залпом выпил, а Степа сразу туда налил пива:
– Запивай. Водка без пива – деньги на ветер.
Костя опрокинул в себя и стакан пива, зашарил по столу в поисках закуски. Степа услужливо поднес ему бутерброд со шпротиной. Тот с жадностью, словно не ел неделю, весь бутерброд отправил в рот, пережевывал. Опьянел он мгновенно, глазки собрались в кучку.
– Ну, становись, бить буду, – сказал Степа, закатывая рукав рубашки.
– Подожди… проглочу… Так. Только ты… аккуратней…
– Все сделаем ювелирно, – заверил Степа.
Не успел Костя приготовиться к удару, как Заречный вмазал кулаком по скуле. Тот взмахнул руками и грохнулся на пол у стены. Озверел. Подскочил, сжимая кулаки:
– Ну, Заречный! Ты труп!
– Спокойно, спокойно, – подхватил его Степа под руки и потащил к дивану. – Мы ж договорились, Костя, ты забыл?
– Помню, – кивнул Луценко так, что чуть не отвалилась голова. – Ты должен был… команды ждать. А ты не ждал. У меня голова треснула. Треснула, я спрашиваю?
Степа бросил безвольное тело на диван, осмотрел скулу.
– Нет, все в норме, – сказал он. – Ссадина есть. И синяк будет. Очень хорошо.
– Тебе, может, и хорошо, а мне… не… – и Костя попытался встать.
– Ты лежи, лежи, – вновь уложил его Степа. – Чего-нибудь хочешь?
– Кушать, – промямлил Костя и сел.
Степа сжалился над ним, принес бутерброд с тоненьким кусочком сыра. Затем придвинул стул к дивану, поставил водку с пивом:
– А это тебе, как проснешься. Проснулся – выпил, заснул. Проснулся… и так далее. Ты меня слышишь?
– Отвянь, – проворчал Костя, заваливаясь на диван.
Степа вышел из его квартиры, нажав на кнопку лифта, сказал себе:
– Опер должен уметь все! Пить тоже.
2
В театре объявили экстренный сбор. Собрание еще не началось, потому как артисты и обслуживающий персонал подтягивались долго, садились в зале поодиночке, воровато оглядывали присутствующих. Эра Лукьяновна восседала на стуле у сцены, рядом с ней присоседился Юлиан Швец, которого Степа прозвал «мужчинкой», нашептывал директрисе что-то на ухо, бросая таинственные взгляды на вновь вошедших.
Основная часть работников театра собралась. Юлиан Швец окатил зал пристальным взглядом и принялся что-то писать в блокноте, скорее всего, брал на заметку тех, кто не явился. Эра Лукьяновна встала. В зале наступила томительная тишина.
– Докатились, – с большим чувством произнесла она, вложив в слово все свое негодование и презрение. – Уже травите друг друга, да? За последнюю ночь наш состав пополнился тремя трупами! Это уже, простите, нонцес какой-то! Вас и так не уважали в городе, теперь вы полностью покрылись позором! Вам налогоплательщики платят заработную плату, а вы что сделали? Ядом запаслись!..
– Кто-то запасся, – поправил вполголоса Юлиан, не разжимая губ.
– Да, – подхватила она, – кто-то из вас запасся ядом и теперь травит актеров! Я понимаю, ваши инсинуации направлены против меня! Вы тут всех снимали, директоров и режиссеров, меня снять не получилось, надумали трупами выпихнуть? Ничего не выйдет, меня отсюда вынесут только вперед ногами! Я думаю, это будет не скоро. Так вот предупреждаю, отравителя найдут органы, и понесет он самое суровое наказание. Не удивлюсь, если в театре обнаружим бомбу. Так вот, довожу до вашего сведения. Теперь сумки всех входящих в здание театра будет проверять вахтер. Я вам покажу бомбы и яды!
Высказавшись, Эра Лукьяновна отстучала каблуками через центральный проход зала, хлопнула тяжелой дверью, стук удаляющихся каблуков слышался еще некоторое время. Наступила тишина, как в морге.
Встал Юлиан, собравшиеся коллеги обстреляли недоброжелательными взглядами. Но Юлика не прошибешь виртуальным обстрелом. До прихода Эры Лукьяновны это был ничем не примечательный артист, исполняющий роли типа «кушать подано». Она, только она вытащила его наверх, обрушила на Юлиана поток ролей мирового репертуара, многочисленные премии, звание, должность руководителя творческого состава, по сути соответствующая главному режиссеру. Сам Юлиан спектаклей не ставил, не умел. Но руководил… неизвестно чем. Впрочем, нет, он руководил, как ни покажется странным, директором. Это щупленький, не представительный внешне человек лет тридцати семи, похожий на неизвестного маленького зверька. Разговаривает он вкрадчиво, не повышая голоса, ходит осторожно, словно боится наступить на мину, улыбается, пряча улыбку, возможно из-за кривых и редких зубов. Именно он нашел подход к Эре Лукьяновне, ему она верит безраздельно, что ж, любви все возрасты покорны.
– Думаю, не надо говорить, что ЧП в театре уже всколыхнуло город, – начал Юлиан предельно серьезно. А раньше слыл комиком, но не на сцене, а в жизни, где с успехом исполнял главную роль, роль шута горохового. – На сцену нам теперь выйти будет сложно, в глазах общественности мы преступники. Поэтому ближайшие спектакли, и сегодняшний тоже, отменяются. Смотрите расписание, со вторника начнутся репетиции, необходимо произвести вводы на роли Ушаковых и Галеева. До свидания.
За сим удалился тем же путем, что и директриса. Работники театра сидели некоторое время как прибитые, потом разбрелись, не глядя друг на друга, кто куда – курить, домой, в служебные помещения. Никто не поднял бунт, не отстаивал свое достоинство, несмотря на унижение и оскорбление. Коллектив экстренно вызвали и зачем? Чтобы за пять минут обвинить в убийстве и отпустить на все четыре стороны! Однако то, что случилось ночью, не могло пройти бесследно. Люди еще не оправились от шока, но внутри многих уже произошел переворот. Пока не пришло осознание внутренних изменений, поэтому люди в курилке молчали. Сюда потянулись и те, кто не курит, нежданно почувствовав непреодолимую тягу к единению. В молчании постояли с полчаса и постепенно разошлись.
Кандыков Евгений подошел к Люсе. Ему под пятьдесят, когда-то он имел вес в театре, теперь же с ним не считаются. Жена его Катерина работает много лет помощником режиссера. В ее обязанности входит, чтобы все было вовремя: дать звонки, вызвать на выход артистов, открыть и закрыть занавес, проследить, чтобы артисты не несли отсебятину на сцене… Катерине работа нравилась, все же не на заводе горбатиться, да и звучит должность красиво. Когда-то директриса хотела ее выгнать без причин, ценой унижений Кандыков отстоял жену.
Трудно дались Евгению фразы, но он их произнес:
– Я подпишу. И хочу в списке стоять первым.
Это уже поступок. Выпад. Бунт. Однако Люся, зная его не один год, спросила:
– Не передумаешь?
– Нет, – коротко, но решительно ответил Кандыков.
– Сегодня вечером я принесу письмо тебе домой, – сказала Люся, оглядываясь по сторонам, а то подслушивание в театре стало нормой. – Я уже его написала, может, ты дополнишь?
– Неси, дополню.
Он направился к служебному выходу, а Люся смотрела ему вслед. Все-таки она не была полностью уверена, что Кандыков подпишет. Сколько раз было, когда он обещал броситься на амбразуру, а в последний момент отступал. Катька Кандыкова возьмет в оборот мужа, и вместо подписи тогда увидишь шиш. Умишко у нее скудный, а направить умеет. Только от подписи Кандыкова зависит, подпишут ли и другие. Все-таки заслуженный артист, лицо, уважаемое в городе… Правда, общественность города не встала на защиту любимых артистов, когда их выгоняла Эра Лукьяновна, общественность ограничилась лишь сочувствием. Да и Люся тогда поддерживала директрису, надеясь, что с уходом ведущих актрис роли будут доставаться ей. Но… человек предполагает, а бог располагает. Теперь и Люсю хотят выгнать.
3
– Заходи, заходи, – махнула рукой Волгина, когда Степа заглянул к ней. Заречный сел напротив, Оксана кинула ему кипу бумаг. – Я как раз изучаю дело. Три трупа – начальство взбесилось. Ты говорил, будто опрашивал свидетелей. Что ж вы с Микулиным так плохо поработали? В свидетельских показаниях одна мура.
Оксана выжидающе смотрела на Степу, бегло изучающего исписанные листы. А он вовсе не вникал, что там написано, только думал, чем заинтересовать Волгину, чтоб не послала куда подальше. Вообще-то Степа легко сходится с людьми, его искренность и тактичность располагают к нему, он производит впечатление порядочного человека, которому можно довериться. К тому же он, как говорит Янка, ужасно обаятельный. Вспомнив об этом, он отбросил листы, подался корпусом к Волгиной, положив локти на стол – поза означает «я тебе верю, верь и ты мне», – и доверительно рассказал:
– Я, Оксана, не остался до конца. Мне хватило послушать нескольких человек, чтобы понять: в этом заведении обитают шизоидные люди, честное слово. Они какие-то… замордованные, что ли. Но вполне вероятно, на них сильно подействовала смерть на сцене. Только, мне кажется, эти ребята и в обычное время… запуганные. Потому что, в каком бы ни был человек состоянии, в такой экстремальной ситуации его первый порыв будет – помочь следствию. Срабатывает элементарное чувство ответственности перед убитым. Это потом он подумает и при повторном допросе может изменить показания. А мы встретились лишь с голыми эмоциями, и никто не дал нам разъяснений, почему возникли эти эмоции.
– Ты думаешь, я что-нибудь по поводу эмоций поняла? – съехидничала Волгина.
– Ну, эти эмоции можно назвать жалостью к себе, не более, – объяснил, как умел, Степа. – А когда мы задавали конкретные вопросы, те же актеры умолкали или юлили, опять же прячась за эмоциями или… игрой в эмоции. Они как зверьки, чующие землетрясение, малейшая опасность – переключаются на непонимание, уходят в сторону. Это понятно?
– Это понятно, товарищ психолог, – кивнула она. – Значит, свидетели будут юлить на допросах, так? Интересно, почему? Потому что боятся? Кого же они боятся?
– Во-первых, директора. Это я сразу понял. Директриса у них… это что-то запредельное, видно при первом же знакомстве с ней. Во-вторых, мне случайно удалось подслушать разговор двоих, в лицо я их не видел, но по голосу узнаю. Из их слов я сделал вывод, что в смерти артистов они винят какую-то Эпоху и еще одного… его альфонсом называли. Так вот он, альфонс, пришел на сцену перед началом спектакля, хотя не играл в нем. А ушел в антракте! Выводы я не делаю, но…
– Людей, находившихся в театре, было немного, – задумчиво произнесла Оксана, – убийство произошло в замкнутом пространстве, круг подозреваемых ограниченный…
Вот тебе и здрасьте! Прозвучал откровенный намек, что дело плевое, значит, следователь Волгина обойдется без посторонних. Тем более что первого подозреваемого он уже сдал ей.
– Вычислить убийцу все равно будет сложно, – возразил Степа. – Он хорошо подготовился, фактически под подозрение попадает каждый, кто появлялся на сцене.
– А какие у тебя соображения? С чего начинать, как думаешь?
Угу, экзаменует. Скажи-ка, мол, мент безмозглый, чем собрался меня удивить? Я ведь крутая, на убийствах собаку съела. Только и Степа собаку съел на сыске, хоть и молод годами. Примерно так думал он, выдерживая взгляд рептилии, а вслух сказал совсем другое:
– Понимаешь, Оксана, понаблюдав за артистами, я сделал вывод, что они играют постоянно. Даже на фотографиях, развешанных по стенам в театре, они не настоящие. Надо попытаться выявить их подлинную суть, вывести на откровенность. Именно этим я и хочу заняться, но не официально, а ты допрашивай по форме. Я пока не знаю, как точно надо действовать, буду смотреть по обстоятельствам. Потом сравним показания и свои впечатления. Идет?
Она гипнотизировала его желтыми глазами несколько секунд и наконец дала добро:
– Идет. Тогда слушай. Звонил Петрович, в бокале и в водке, которую пил Галеев, яд. Все подробности он изложит в заключении экспертизы и при личной встрече, но позже. Ты же знаешь, Петрович есть Петрович, он качественнее любых протоколов. Ткани внутренних органов пострадавших отправлены на гистологию, после чего он и мы сможем сделать окончательные выводы. Держи протокольчик…
Степа быстро пробежал глазами протокол, отбросил его.
– Что это отравления, догадался не я один, – сказал он. – Значит, яд бросили в бокал, в кувшине его не оказалось. В табакерке Фердинанда, в которой ему приносили сахар, яда тоже нет. Кто-то буквально на глазах у всех это сделал.
– Вот именно, – вздохнула Волгина. – Подошел к реквизиторскому столу на сцене, кинул яд в бокальчик, очень может быть, постоял у стола и с кем-нибудь потрепался, а не умчался сразу прочь. Степа, как думаешь, прохронометрировать нам не удастся?
– Кто и во сколько подходил к реквизиторскому столу? Вряд ли. Человек двадцать находилось во время спектакля за кулисами! Слушай, в спектакле есть большие сцены, где заняты два-три человека. Возьми в театре пьесу, по ней и ориентируйся. Если выяснить, кто и где находился, когда был свободен во время действия на сцене, можно сузить круг подозреваемых. А что говорит собутыльница артиста Галеева?
– Ничего. Ее увезли на «Скорой» практически без памяти. Давай-ка, бери ее на абордаж. Я созвонилась с больницей, мне сказали, что Овчаренко отпустили домой. Держи адрес. Вот так артисты! Откололи номер…
– Думаешь, кто-то из артистов?
– Понимаешь, Степочка, в юности я мечтала стать актрисой, как все нормальные девочки. Даже у нас в драматическом кружке ссорились из-за ролей. А убийство всегда там, где есть интерес, так?
– Ну, так, – согласился Степа, хотя не совсем принял точку зрения Волгиной. Разве из-за роли убивают? Это же ничто, воздух в кулаке, страницы напечатанного текста.
– А интерес в театре вокруг чего вертится? – выстраивала логику Оксана. – Вокруг сцены. Следовательно, заинтересованные лица, прежде всего актеры. Ну, пока.
Степа схватил адрес и помчался к Овчаренко домой.
4
Клавдия Овчаренко сидела у себя на кухне, уставившись на бутылку водки, которую купила в магазине на последние гроши. И не пила. Клаве было погано в буквальном и переносном смыслах, но она не пила! А выпить хотелось до одури, залить ужас, терзавший ее с тех пор, как очнулась. Не яд пугал, водка куплена в магазине, там некому травить ее. Пугала прошедшая ночь, наполненная страшными, роковыми событиями. Сначала Ушаковы, потом Галеев. И умер Лева не потому, что закодировался, а потому, что водка была ядовитая! Вот так, травят артистов!
Клава сейчас зациклилась на одном: стоит выпить, как придет убийца, проникнет сквозь стены, и тогда не спастись. В борьбе между выпить и не выпить, борьбе, исчерпывающей силы, пробыла часа три. Внутри прозрачной бутылки покоилась спасительная жидкость, превращающая убогую, безрадостную жизнь в праздник, недолгий и маленький, но праздник. Только эта жидкость, бесцветная и отдающая сивухой, потому как дешевая, способна преобразить Клаву из трусливого кролика в очаровательную и энергичную женщину. Так ей казалось. Но убийца, возможно, стоит за дверью, подкарауливает. Что, если он следил за ней от больницы?
Раздавшийся звонок вывел ее из оцепенения, но и прибавил страху. Кто пожаловал? Клава на цыпочках подобралась к двери, спросила – кто?
– Из милиции.
Не сразу, но щелкнули замки, дверь приоткрылась, в щели показался настороженный глаз Овчаренко.
– Я хочу с вами поговорить, – сказал Степа, приблизив удостоверение к черному глазу Клавы. Глаз прочел все надписи, уставился на мента, который тут же спросил: – Можно войти?
– Вызвали бы повесткой… – нашла отговорку Клава, чтобы не пустить мента.
– Если хотите, вас вызовут, но поговорить со мной в ваших интересах, – бросил Степа и повернулся, собираясь уйти, мол, лично мне плевать на тебя.
– Проходите, – пригласила Клава, так как на нее подействовали слова «в ваших интересах». Ее интерес бесспорный, она ведь могла оказаться на месте Левы. К тому же это живой человек, из органов – она запомнила его со вчерашнего вечера, – с ним не страшно.
Степа прошел, куда его повела Клава – на кухню, где было очень неопрятно. Раковина заполнена грязной посудой, на столе крошки и остатки еды, плита в черных пятнах, в углах потолка паутина, и байковый халат на Овчаренко не первой свежести. Он сел на указанный стул, дождался, когда присядет и Клава, которая сначала поставила закопченный чайник на плиту. Но вот она опустилась на табурет, закурила, вид при этом у нее был помятый-препомятый, отечный и потерянный.
– Скажите, Клавдия… отчество не запомнил, извините.
– Можно просто Клава, – сказала она.
– С вами не говорили после смерти Галеева, но это необходимо. Как произошло, что вы остались живы, а он погиб?
– Я пила из старой бутылки, там осталось на донышке. А Леве дала неначатую…
– Выходит, это вы дали ему бутылку с отравленной водкой?
Она шмыгнула носом, растерянно вперившись в Степу. До ее сознания, затуманенного похмельным синдромом и стрессом, наконец дошло, что она из собственных рук дала яд Галееву. Клава и есть отравительница! А этот молодой человек подозревает ее и в отравлении Ушаковых! От этого затряслись руки еще больше, сигарета не сразу попадала в рот.
– Я не хотела его убивать, – произнесла Клава дрожащим голосом. – Я бы никогда этого не сделала. Дала водку, потому что не знала, что там отрава, поверьте. Я заснула в курилке, когда милиция работала в театре, потом проснулась, увидела Леву… У него не было денег на такси, он остался в театре. Мы собрались выпить… А что еще делать после всего? Знаете, как на душе… не передать! Надо было расслабиться. А у меня полная бутылка и время нечем убить. Я хотела поделиться. Лева выпил и… и… умер.

