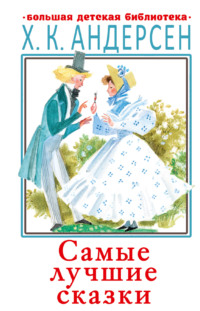
Самые лучшие сказки
Скоро студент перебрался в другое женское сердце, но это сердце показалось ему просторным, святым храмом: белый голубь невинности парил над алтарем. Он охотно преклонил бы здесь колена, но нужно было продолжать путешествие. Звуки церковного органа еще раздавались у него в ушах, он чувствовал себя точно обновленным, просветленным и достойным войти в следующее святилище. Это последнее показалось ему бедной каморкой, где лежала больная мать. Через открытое окно сияло теплое солнышко, из маленького ящичка на крыше кивали головами чудесные розы, а две небесно-голубые птички пели о детской радости в то время, как больная мать молилась за дочь.
Вслед за тем медик на четвереньках переполз в битком набитую мясную лавку, где всюду натыкался на одно мясо; это было сердце богатого, всеми уважаемого человека, имя которого можно найти в справочнике.
Оттуда студент попал в сердце его супруги. Это была старая полуразвалившаяся голубятня. Портрет мужа служил флюгером; к нему была привязана входная дверь, которая то открывалась, то закрывалась, смотря куда поворачивался супруг.
Потом студент очутился в зеркальной комнате вроде той, что находится в Розенборгском дворце, но эти зеркала увеличивали все в невероятной степени. Посреди комнаты, точно какое-то божество далай-лама, сидело ничтожное «я» хозяина этого сердца и восхищенно любовалось собственным величием.
Затем медику показалось, что он попал в узкий игольник, полный острых иголок. Он подумал было, что попал в сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся – это было сердце молодого военного, награжденного орденами и слывшего за «человека с умом и сердцем».
Совсем ошеломленный, несчастный студент оказался, наконец, на своем месте и долго-долго не мог опомниться. Нет, положительно, фантазия его уж чересчур разыгралась!
«Господи, боже мой! – вздыхал он про себя. – Я, кажется, в самом деле начинаю сходить с ума. И какая невыносимая здесь жара! Кровь так и стучит в висках!» Тут ему вспомнилось вчерашнее злоключение. «Да, да, вот оно, начало всего! – думал он. – Надо вовремя принять меры. Особенно помогает в таких случаях русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке!»
В ту же минуту он и лежал там, но одетый, в сапогах и калошах. На лицо ему капала с потолка горячая вода.
– Уф! – закричал он и побежал в душ.
Банщик тоже громко закричал, увидев в бане одетого человека.
Студент, однако, не растерялся и шепнул ему:
– Это я на спор!
Придя домой, он, однако, поставил себе две шпанские мушки, одну на шею, другую на спину, чтобы покончить с помешательством.
Наутро вся спина у него была в крови. Вот и все, что принесли ему калоши Счастья.
V. Превращения писаряНочной сторож, которого мы, может быть, еще не забыли, вспомнил между тем о найденных и затем оставленных им в больнице калошах и явился за ними.
Ни офицер, ни кто другой из жителей той улицы не признал, однако, их своими, и калоши отнесли в полицию.
– Точь-в-точь мои! – сказал один из полицейских писарей, рассматривая находку и свои собственные калоши, стоящие рядом. – Сам мастер не отличил бы их друг от друга!
– Господин писарь! – обратился к нему вошедший с бумагами полицейский.
Чиновник обернулся и поговорил с ним, а когда вновь взглянул на калоши, то уже и сам не знал, какие были его собственными: те, что стояли слева или справа?
«Должно быть, вот эти мокрые – мои!» – подумал он, да и ошибся. Это были как раз калоши Счастья. Но и в полиции иногда ошибаются. Он надел их, сунул некоторые бумаги в карман, другие взял под мышку – чтобы просмотреть и переписать их дома. День был воскресный, погода стояла хорошая, и он подумал, что недурно будет прогуляться по Фредериксбергскому саду.
Пожелаем же этому тихому, трудолюбивому молодому человеку приятной прогулки. Ему вообще полезно было прогуляться после долгого сидения в канцелярии.
Сначала он шел, не думая ни о чем, так что калошам не было еще случая проявить свою волшебную силу.
В аллее писарь встретил молодого поэта, который сообщил ему, что уезжает путешествовать.
– Опять уезжаете! – сказал писарь. – Счастливый вы народ, свободный! Порхаете себе, куда хотите, не то что мы! У нас цепи на ногах!
– Они приковывают вас к хлебному местечку! – отвечал поэт. – Вам не нужно заботиться о завтрашнем дне, а под старость получите пенсию!
– Нет, все-таки вам живется лучше! – сказал писарь. – Писать стихи – одно удовольствие! Все вас расхваливают, и к тому же вы сами себе хозяева! А вот попробовали бы вы посидеть в канцелярии да повозиться с этими скучными делами!
Поэт покачал головой, писарь тоже, и каждый остался при своем мнении. С тем они и распрощались.
«Особый народ эти поэты! – думал чиновник. – Хотелось бы мне побывать на их месте, самому стать поэтом. Уж я бы не писал таких слезливых стихов, как другие! Сегодня как раз настоящий поэтический весенний день! Воздух как-то необыкновенно прозрачен, и облака удивительно красивы! А что за запах, что за благоухание! Да, никогда еще я не чувствовал себя так, как сегодня».
Замечаете? Он уже стал поэтом, хотя на вид нисколько не изменился. Нелепо ведь предполагать, что поэты – какая-то иная порода людей. И между обыкновенными смертными встречаются натуры куда более поэтические, чем многие признанные поэты. Вся разница в том, что у поэтов более развита образная память, позволяющая им хранить в своей душе идеи и чувства до тех пор, пока они, наконец, ясно и точно не выльются в словах и поэтических образах. Однако стать из простого, обыкновенного человека поэтической натурой – настоящее превращение, и вот оно-то и произошло с писарем.
«Какой чудесный аромат! – думал он. – Мне вспоминаются фиалки тетушки Лоны! Да, я был тогда еще ребенком! Господи, сколько лет я не вспоминал о ней! Добрая старушка! Она жила там, за биржей! У нее всегда, даже в самые лютые зимы, стояли в воде какие-нибудь зеленые веточки или ростки. Фиалки так и благоухали, а я прикладывал к замерзшим окнам нагретые медные монетки, чтобы оттаять себе маленькие отверстия для глаз. Ах, какой был вид! На канале стояли обледеневшие корабли, занятые стаями ворон вместо команды. Но наступала весна, и на судах закипала работа, раздавались песни и дружные крики «ура» рабочих, подрубавших лед вокруг днища. Корабли смолили, конопатили, и затем они отплывали в дальние страны. А я оставался! Мне суждено вечно сидеть в канцелярии и только смотреть, как другие выправляют себе заграничные паспорта! Вот моя доля! Увы!» Тут он глубоко вздохнул и затем вдруг приостановился.
«Что это со мной сегодня? Никогда еще не приходили мне такие мысли и чувства! Это, наверное, весенний воздух действует! И жутко, и приятно на душе! – Он полез в карман за бумагами. – Надо подумать о другом, бумаги помогут мне. – Но, бросив взгляд на первый же лист, он прочел: – «Зигбрита, трагедия в 5-ти действиях». Что такое? Почерк, однако, мой… Неужели я написал трагедию? А это что? «Интрижка на балу, водевиль». Откуда все это? Наверное, кто-то подсунул мне? А вот еще письмо!»
Письмо было не очень вежливым отзывом театральной дирекции о двух упомянутых пьесах.
– Гм! Гм! – произнес писарь и присел на скамейку. В голове его проносилось множество мыслей, душа наполнилась нежностью. Машинально он сорвал росший рядом цветок и стал его разглядывать. Это была просто ромашка, но за одну минуту она рассказала ему столько, сколько можно узнать на нескольких лекциях по ботанике. Она поведала ему чудесную повесть о своем рождении, о волшебной силе солнечного света, заставившего распуститься и источать аромат ее нежные лепестки. Поэт же в это время думал о жизненной борьбе, пробуждающей в человеке скрытые в нем силы. Да, воздух и свет – возлюбленные цветка, но свет, как желанный избранник, неутомимо притягивает его; когда же свет меркнет, цветок сворачивает свои лепестки и засыпает в объятиях воздуха.
– Свету я обязана своей красотой! – говорила ромашка.
– А чем бы ты дышала без воздуха? – шепнул ей поэт.
Неподалеку от него стоял мальчуган и шлепал палкой по воде в канавке. Мутные брызги так и летели в зеленую траву. Писарь стал думать о миллионах невидимых организмов, взлетавших вместе с каплями воды на заоблачную для них – в сравнении с их собственной величиной – высоту. Думая об этом и о том превращении, которое произошло с ним сегодня, писарь улыбнулся. «Я просто сплю и вижу сон! Удивительно, однако, до чего сон может быть реален! И все-таки я отлично знаю, что это только сон. Хорошо бы вспомнить завтра утром все, что я теперь чувствую. У меня прекрасное настроение, я вижу все как-то особенно четко и ясно, чувствую необычайный подъем. Увы! Я уверен, что утром, кроме чепухи, ничего не вспомню, как это уж не раз бывало! Все эти умные, дивные вещи, которые слышишь или говоришь во сне, как золото гномов, – днем оказывается кучей камней и сухих листьев. Увы!»
Писарь грустно вздохнул и поглядел на весело распевавших и перепархивавших с ветки на ветку птичек.
«Им живется куда лучше нашего! Умение летать – завидный дар! Счастлив, кто родился с ним! Если бы я мог превратиться во что-нибудь, я желал бы стать таким маленьким жаворонком!»
В ту же минуту рукава и фалды его сюртука сложились в крылья, платье стало перьями, а калоши – когтями. Он отлично заметил все это и засмеялся про себя: «Ну, теперь я вижу, что это сон! Но таких смешных снов мне еще не случалось видеть!» Затем он взлетел на дерево и запел, но в его пении уже не было поэзии – он перестал быть поэтом. Калоши, как и всякий, кто относится к делу серьезно, могли исполнять только одно дело сразу: захотел он стать поэтом – стал, захотел превратиться в птичку – превратился, но утратил прежнюю способность. «Недурно! – подумал он. – Днем я сижу в полиции, занятый самыми важными делами, а ночью мне снится, что я летаю жаворонком в Фредериксбергском саду! Вот сюжет для народной комедии!»
И он слетел на траву, завертел головкой и стал пощипывать клювом гибкие стебельки, казавшиеся ему теперь огромными пальмами.
Вдруг вокруг него стало темно, как ночью. Ему показалось, что на него набросили какой-то огромный предмет – это мальчуган накрыл его своей фуражкой. Под фуражку подлезла рука и схватила писаря за хвост и крылья, так что он запищал, а затем громко крикнул:
– Ах ты, бессовестный мальчишка! Ведь я полицейский писарь!
Но мальчуган расслышал только: «пип-пип», щелкнул птицу по клюву и пошел с ней своей дорогой.
На аллее ему встретились два школьника из высшего класса – т. е. по положению в обществе, а не в школе. Они купили птицу за восемь скиллингов[11]. И вот писарь вновь вернулся в город и попал в один дом на Готской улице.
«Хорошо, что это сон, – думал чиновник, – не то бы я, право, рассердился! Сначала я был поэтом, потом стал жаворонком! Это моя поэтическая натура внушила мне желание превратиться в это крошечное создание! Довольно печальная участь, однако! Особенно если попадешь в лапы мальчишек. Но любопытно все-таки узнать, чем все это кончится?»
Мальчики принесли его в богато убранную гостиную, где их встретила полная, улыбающаяся барыня. Она не особенно обрадовалась простой полевой птице, как она назвала жаворонка, но позволила посадить его на время в пустую клетку, стоявшую на окне.
– Может быть, она позабавит попочку! – сказала барыня и улыбнулась большому зеленому попугаю, важно качавшемуся на кольце в своей великолепной металлической клетке. – Сегодня попочкин день рождения, – продолжала она глупо-наивным тоном, – и полевая птичка пришла его поздравить!
Попочка не ответил ни слова, продолжая качаться взад и вперед, зато громко запела хорошенькая канарейка, только прошлым летом привезенная со своей теплой, благоухающей родины.
– Крикунья! – сказала барыня и махнула на клетку белым носовым платком.
– Пип, пип! Какая ужасная метель! – вздохнула канарейка и умолкла.
Писарь, или, как назвала его барыня, полевая птица, был посажен в клетку, стоявшую рядом с клеткой канарейки и недалеко от попугая. Единственное, что попугай мог прокартавить человечьим голосом, была фраза, звучавшая иногда очень комично: «Нет, хочу быть человеком!» Всё остальное выходило у него так же непонятно, как и щебетанье канарейки, непонятно для людей. Но писарь, который сам был теперь птицей, отлично понимал своих собратьев.
– Я летала под тенью зеленых пальм и цветущих миндальных деревьев! – пела канарейка. – Я летала со своими братьями и сестрами над роскошными цветами и тихими зеркальными водами озер, откуда нам приветливо кивал зеленый тростник. Я видела там прелестных попугаев, умевших рассказывать забавные сказки, без конца, без счета!
– Дикие птицы! – ответил попугай. – Без всякого образования. Нет, хочу быть человеком!.. Что ж ты не смеешься? Если это смешит госпожу и всех гостей, то и ты, кажется, могла бы засмеяться! Это большой недостаток – не уметь ценить забавных острот. Нет, хочу быть человеком!
– Помнишь ли ты красивых девушек, плясавших под сенью цветущих деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких овощей?
– О да! – сказал попугай. – Но здесь мне гораздо лучше! Меня хорошо кормят, и я – свой человек в доме. Я знаю, что я малый с головой, и этого с меня довольно. Нет, хочу быть человеком! У тебя, что называется, поэтическая натура, я же основательно образован и к тому же остроумен. В тебе есть гений, но тебе не хватает рассудительности, ты берешь всегда чересчур высокие ноты, и тебе за это зажимают рот. Со мной этого не случится – я обошелся им подороже! Кроме того, я внушаю им уважение своим клювом и остер на язык! Нет, хочу быть человеком!
– О моя теплая, цветущая родина! – пела канарейка. – Я стану воспевать твои темно-зеленые леса, твои тихие заливы, где прозрачные волны целуют ветви, где растут «водоемы пустыни»[12]; стану воспевать радость моих братьев и сестер!
– Оставь ты свои ахи и охи! – сказал попугай. – Лучше посмеши нас! Смех – признак высшего умственного развития. Ведь ни лошадь, ни собака не смеются, они могут только плакать; смехом одарен только человек! Хо, хо, хо! – захохотал попугай и опять сострил: – Нет, хочу быть человеком!
– И ты попала в плен, серенькая датская птичка! – сказала канарейка жаворонку. – В твоих лесах, конечно, холодно, но все же ты была там свободна! Улетай же! Смотри, они забыли запереть тебя; форточка открыта, улетай, улетай!
Писарь так и сделал, выпорхнул и сел на клетку. В эту минуту в полуоткрытую дверь скользнула из соседней комнаты кошка с зелеными сверкающими глазами и бросилась на него. Канарейка забилась в клетке, попугай захлопал крыльями и закричал:
– Нет, хочу быть человеком!
Писаря охватил смертельный ужас, и он вылетел в форточку. Он летел, летел, пока, наконец, не устал.
Соседний дом показался ему знакомым. Одно окно было открыто. Он влетел в комнату – это была его собственная комната – и сел на стол.
– Нет, хочу быть человеком! – сказал он, бессознательно повторив остроту попугая, и в ту же минуту стал опять писарем. Но оказалось, что он сидит на столе!
– Господи помилуй! – воскликнул он. – Как это я попал сюда, да еще заснул! И какой сон приснился мне! Вот чепуха-то!
VI. Лучшее, что сделали калошиНа другой день, рано утром, когда писарь еще лежал в постели, в дверь постучали, и вошел его сосед, студент-богослов.
– Одолжи мне свои калоши! – сказал он. – В саду еще сыро, но солнышко так ярко сияет. Хочу пойти выкурить на воздухе трубочку!
Надев калоши, он быстро вышел в сад, в котором росло лишь одно грушевое и одно сливовое дерево. Но даже такой садик считался в Копенгагене[13] большой роскошью.
Богослов ходил взад и вперед по дорожке. Было всего шесть часов утра. С улицы донесся звук почтового рожка.
– О, путешествовать, путешествовать! Лучше этого нет ничего в мире! – промолвил он. – Это моя самая заветная мечта! Если бы достигнуть ее! Тогда сердце мое перестанет тревожиться. Меня так и тянет вдаль! Дальше, дальше… Увидеть чудную Швейцарию, Италию…
Да, хорошо, что калоши действовали немедленно, не то он забрался бы, пожалуй, слишком далеко и для себя, и для нас! И вот он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в дилижанс вместе с восемью другими пассажирами. У него болела голова, ныла спина, ноги затекли и распухли, сапоги нестерпимо жали. Он не то спал, не то бодрствовал. В правом боковом кармане у него лежали банковские переводные векселя, в левом – паспорт, а на груди – мешочек с зашитыми в нем золотыми монетами. Стоило богослову задремать, как ему чудилось, что та или другая из этих драгоценностей потеряна. Дрожь пробегала у него по спине, и рука лихорадочно описывала треугольник – справа налево и на грудь, – чтобы удостовериться в целости всех своих сокровищ. В сетке под потолком дилижанса болтались зонтики и шляпы, мешавшие ему любоваться дивными окрестностями. Он смотрел, смотрел, а в ушах его так и звучало четверостишие, которое написал во время путешествия по Швейцарии, но не для печати, один известный нам поэт:
Да, хорошо здесь! И МонбланЯ вижу пред собой, друзья!Когда б к тому тугой карман,Вполне счастливым был бы я!Окружающая природа была сурово-величественна. Сосновые леса на вершинах высоких гор казались просто вереском. Пошел снег, подул резкий, холодный ветер.
– Брр! Если бы мы были по ту сторону Альп, было бы уже лето, а я получил бы деньги по моим векселям! Из страха потерять их я не могу как следует наслаждаться Швейцарией. Ах, если бы мы уже были по ту сторону Альп!
И он очутился по ту сторону Альп, в середине Италии, между Флоренцией и Римом. Тразименское озеро было освещено вечерним солнцем. Здесь, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, виноградные лозы цеплялись друг за друга своими зелеными пальчиками. Под тенью цветущих лавровых деревьев прелестные полуголые дети пасли на дороге черных как смоль свиней. Да, если написать картину, все воскликнули бы: «Ах, чудесная Италия!» Но ни богослов, ни его спутники, сидевшие в почтовой карете, так не говорили.
В воздухе носились тучи ядовитых мух и комаров. Напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками – насекомые кусали и жалили их немилосердно. В карете не оставалось ни одного человека, у которого не было бы искусано и не распухло все лицо. Бедных лошадей мухи облепили роями, так что они походили на падаль. Кучер время от времени слезал с козел и отгонял от несчастных животных их мучителей, но этого хватало только на минуту. Но вот солнце село, и путников охватил леденящий холод. Это было совсем неприятно. Зато облака и горы окрасились в необыкновенные зеленовато-сверкающие тона. Да, это трудно описать, надо видеть все самому. Зрелище было бесподобное, с этим соглашались все пассажиры. Но… желудок был пуст, тело устало, все мечтали о ночлеге, но каков он будет? Всех больше занимали эти вопросы, нежели красоты природы.
Дорога лежала через оливковую рощу, и богослову казалось, что он едет между родными узловатыми ивами. Наконец, добрались до одинокой гостиницы. У входа сидели с десяток нищих калек. Самый бодрый из них выглядел «достигшим совершеннолетия старшим сыном голода». Другие были или слепы, или с высохшими ногами и ползали на руках, или с изуродованными руками без пальцев. Из лохмотьев их так и глядела голая нищета. «Eccelenza, miserabili!»[14] – стонали они и выставляли напоказ изуродованные члены. Сама хозяйка гостиницы встретила путешественников босая, нечесаная и в какой-то грязной блузе. Двери были без задвижек и завязывались попросту веревочками, кирпичный пол в комнатах был весь в ямах, на потолках гнездились летучие мыши, а уж о воздухе и говорить нечего!..
– Пусть накроют нам стол в конюшне! – сказал один из путников. – Там все-таки знаешь, чем дышишь!
Открыли окна, чтобы проветрить комнаты, но его опередили иссохшие руки и непрерывное нытье: «Eccelenza, miserabili!» Все стены были покрыты надписями; половина из них бранила bella Italia!
Подали обед: водянистый суп, приправленный перцем и прогорклым оливковым маслом, салат с таким же маслом, затем, как главные блюда, протухшие яйца и жареные петушиные гребешки; вино и то напоминало микстуру.
На ночь двери были заставлены чемоданами. Один из путешественников стал часовым, другие же заснули. Часовым выпало быть богослову. Фу, какая духота была в комнатах! Жара томила, комары кусались, miserabili стонали во сне.
– Да, путешествие – вещь хорошая! – вздохнул богослов. – Если бы у нас не было тела! Пусть бы оно себе отдыхало, а душа летала повсюду. А то, куда я ни приеду, в душе все та же тоска, та же тревога… Я стремлюсь к чему-то более высокому, чем все эти земные радости. Но где оно и в чем?.. Нет, все-таки я знаю, чего я хочу! Я хочу достигнуть блаженного конца земного странствования!
Слово было сказано, и он оказался на родине, у себя дома. Длинные белые занавески были спущены, посреди комнаты стоял черный гроб. В нем лежал богослов. Его желание было исполнено: тело отдыхало, душа странствовала. «Никто не может назваться счастливым, пока не сойдет в могилу!» – сказал Солон, и его слова подтвердились еще раз.
Каждый умерший – загадка вечности. И эта человеческая загадка в черном гробу не отвечала людям на вопросы, которые задавал сам богослов всего за два, три дня до смерти:
О смерть, всесильная, немая!Твой след – могилы без конца!Увы, ужели жизнь земнаяМоя увянет, как трава?Ужели мысль, что к небу смелоСтремится, сгинет, наконец?Иль купит дух страданьем телаСебе бессмертия венец?..В комнате появились две женские фигуры. Мы знаем обеих, то были фея Печали и посланница Счастья. Они склонились над умершим.
– Ну, – сказала Печаль, – много счастья принесли твои калоши людям?
– Что ж, вот этому человеку, что лежит тут, они дали вечное счастье! – ответила Радость.
– Нет! – сказала Печаль. – Он ушел из мира сам, без зова свыше! Его духовные силы не развились и не окрепли еще настолько, чтобы он мог унаследовать те небесные сокровища, которые были ему уготованы. Я окажу ему благодеяние!
И она стащила с ног умершего калоши. Смертный сон был прерван, и воскресший встал. Печаль исчезла, а с ней и калоши. Она, должно быть, сочла их своей собственностью.
Принцесса на горошине
Жил-был принц, и хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то было вволю, да были ли они настоящие? До этого он никак добраться не мог; так и вернулся домой ни с чем и очень горевал, – уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу.
Раз вечером разыгралась непогода: молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил как из ведра; ужас что такое!
Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.
У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса!
«Ну, уж это мы узнаем!» – подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину; поверх горошины постлала двадцать тюфяков, а еще сверху двадцать пуховиков. На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром ее спросили, как она почивала.
– Ах, очень дурно! – сказала принцесса. – Я почти глаз не сомкнула! Бог знает что у меня была за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!
Тут-то все и увидали, что она была настоящею принцессой! Она почувствовала горошину через сорок тюфяков и пуховиков, – такою деликатною особой могла быть только настоящая принцесса.
И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только никто ее не украл. Знай, что история эта истинная!
Ганс Чурбан
Старая история, пересказанная вновь
Была в одной деревне старая усадьба, а у старика владельца ее было два сына, да таких умных, что и вполовину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно, – она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре.
Оба брата готовились к испытанию целую неделю, – больше времени у них не было, да и того было довольно: знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года – одинаково хорошо мог пересказывать и с начала, и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина; значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, – думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки, – вот какой был искусник!
– Уж я-то добуду королевскую дочь! – говорили и тот и другой.
И вот отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки, белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат, – всего-то их было трое, да третьего никто и не считал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Ганс Чурбан.

