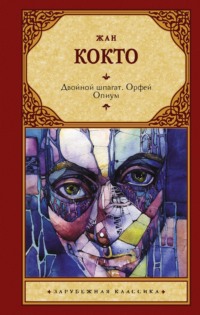
Двойной шпагат. Орфей. Опиум

Жан Кокто
Двойной шпагат; Орфей; Опиум
© Éditions Stock, 1923, 1984, 1991 for Le grand écart
© Editions Stock, 1930, 1983, 1993, 1994, 1997, 2002 for Opium
© Editions Stock, 1927, 1957, 1986, 1991, 1994, 1998, 2005 for Orphée
© Перевод. Н. Бунтман, 2021
© Перевод. C. Бунтман, 2021
© Перевод. Н. Шаховская, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
* * *Двойной шпагат
© Перевод Натальи Шаховской
I
Жак Форестье был скор на слезы. Поводом для них могли быть кинематограф, пошлая музыка, какой-нибудь роман с продолжением. Он не путал эти ложные признаки чувствительности с настоящими слезами. Те лились без видимых причин. Поскольку свои малые слезы он скрывал в полумраке ложи или в уединении за книгой, а настоящие – все-таки редкость, он считался человеком бесстрастным и остроумным.
Репутацией интеллектуала он был обязан быстроте мышления. Он скликал рифмы с разных концов света и сочетал их так, что казалось, будто они рифмовались всегда. Через рифмы мы слышим – неважно что.
Бесцеремонным толчком он посылал имена собственные, характеры, действия, робкие высказывания в их крайнюю степень. Эта манера снискала ему репутацию лжеца.
Добавим, что прекрасное тело или прекрасное лицо восхищали его независимо от того, какому полу принадлежали. Эта странность давала основание наделять его порочными наклонностями: порочные наклонности – единственное, чем наделяют не задумываясь.
Не обладая такой внешностью, какой бы ему хотелось, не отвечая созданному им образу идеального юноши, Жак и не пытался достичь этого столь далекого от него совершенства. Он развивал слабости, тики и чудачества до того, что переставал их стесняться. Он ими добровольно щеголял.
Возделывание неблагодарной почвы, укрощение, облагораживание сорных трав придали его облику нечто суровое, совершенно не вязавшееся с его мягкостью.
Так, из худощавого, каким он был от природы, он сделался тощим; из ранимого – заживо освежеванным. Его желтые волосы, торчащие во все стороны, не укладывались в прическу, и он стриг их ежиком.
В общем, эта внешность, по сути своей антиискусственная, обладала всеми преимуществами искусной мистификации, маскируя мещанскую приверженность к порядку, болезненное бескорыстие, унаследованное от отца, и материнскую меланхоличность.
Если б кто-нибудь из ловких, безжалостных парижских охотников его обнаружил, свернуть ему шею не составило бы труда. Одного слова хватало, чтоб его обескуражить.
Из презрения к скороспелому превосходству, которое приобретается отрицанием устоев собственного класса, Жак эти устои принимал, но на такой необычный лад, что его семья не могла признать их за свои.
В общем, он отличался подозрительной изысканностью – изысканностью зоологической. Такой вот аристократ, не выносящий аристократии, парень из народа, не выносящий масс, тысячу раз на дню заслуживает Бастилии или гильотины.
Его не устраивают ни правые, ни левые, которых он считает мягкотелыми. Только для него, человека крайностей, золотой середины не существует.
В подтверждение аксиомы «Противоположности сходятся» ему мечталась некая девственно-крайняя правая партия, сходящаяся с крайней левой до полного слияния, но чтобы он мог действовать там один. Кресла нет, а если есть – оно никем не занято. Жак усаживался в него, как положено, и оттуда рассматривал все вопросы политики, искусства, морали.
Он не домогался никакого вознаграждения. Люди этого не любят.
Те, что домогаются – потому что бескорыстие притягивает удачу, которую они не способны признать честной. Те, что вознаграждают – потому что у них ничего не просят.
Достичь. Жаку не совсем ясно, чего, собственно, достигают. Короны или Святой Елены достиг Бонапарт? Чего достиг поезд, наделавший шуму, сойдя с рельсов и убив пассажиров? Не большим ли достижением было бы для него достичь станции?
Подыскивая для Жака подходящий прообраз в глубине веков, я разоблачаю его как существо паразитическое.
В самом деле: где бумага, подтверждающая его право наслаждаться трапезой, прекрасным видом, девушкой, мужчинами? Пусть покажет. Все общество вырастает перед ним, как постовой, и требует эту бумагу. Он теряется. Мямлит неизвестно что. Он не может ее найти.
Этот искатель наслаждений, чьи ноги уверенно ступают по земной тверди, этот критик пейзажей и творений держится здесь на ниточке.
Он тяжел, как водолаз в скафандре.
Жак копает в глубину. Он ее угадывает. Он к ней приспособился. Его не вытаскивают на поверхность. Его забыли. Подняться на поверхность, скинуть шлем и костюм – это переход от жизни к смерти. Но через шланг к нему доходит некое нездешнее дыхание, которое животворит его и переполняет ностальгией.
Жак живет в постоянном противоборстве с долгим обмороком. Он не ощущает себя устойчивым. Он ни на что не ставит, кроме как в игре. Едва осмеливается разве что присесть. Он из тех моряков, что не могут исцелиться от морской болезни.
В конечном счете, красоте чисто физической свойственна надменная манера быть везде как дома. Жак, изгнанник, жаждет этой красоты. Чем менее она снисходительна, тем сильнее его волнует; его судьба – вечно об нее раниться.
За стеклом он видит праздник: расу, у которой все бумаги в порядке, которая радуется жизни, существует в своей природной среде и обходится без скафандров.
Значит, он соберет на лицах, не смягченных нежностью, урожай снов.
Вот что открыл бы идеальному графологу почерк Жака Форестье, который стоит сейчас перед зеркальным шкафом, вглядываясь в свое отражение.
Смотрите не ошибитесь. Мы только что описали Жака Форестье анфас, но тут его характер вырисовывается пока лишь в профиль; вот почему мы и говорим об идеальном графологе. Хорошо бы, чтоб он, распутывая буквенную вязь, распутал всю линию жизни. Жак станет человеком, который в какой-то мере опережает причину того, чему предстоит случиться; и с ним произойдет то, чему предстоит случиться, в какой-то мере из-за того, что опередило причину.
Вещи, атомы относятся к своей роли серьезно. Если бы зеркало зазевалось, Жак, несомненно, мог бы шагнуть в него ногой, потом другой, увидеть себя под другим жизненным углом, таким новым, что его и вообразить невозможно. Нет. Зеркало играет жестко. Зеркало есть зеркало. Шкаф есть шкаф. Комната есть комната, третий этаж, улица Эстрапад.
Еще он думает о том англичанине, который покончил с собой, оставив записку: «Слишком много пуговиц, чем застегивать их и расстегивать, лучше умереть». Потому что Жак расстегивает куртку.
Ждать. Чего ждать? Жаку хотелось бы ждать чего-то определенного, упростить свое ожидание. Он не был верующим или верил так смутно, что мать молилась за него как за атеиста…
Неопределенная вера порождает дилетантские души. А дилетантизм – преступление перед обществом. Он верил больше, чем подобает. Он не ограничивал и не уточнял своих верований. Самоограничение в вере придает определенный настрой душе, так же, как ограничение и уточнение своих пристрастий в искусстве придает определенный настрой уму.
Он смотрел на себя. Он заставлял себя смотреть.
В нас много такого, что выталкивает нас за порог собственной личности. С самого детства Жака обуревало желание не добиться любви того, кто казался ему прекрасным, а быть им. Собственная красота ему не нравилась. Он считал ее уродливой.
Воспоминания о человеческой красоте оставались в его памяти ранами. Например, один вечер в Мюррене[1]. У подножия горы наспех пьют холодное пиво, которое выстрелом в упор ударяет в виски. Фуникулер трогается в путь среди шелковиц. Понемногу закладывает уши, нос уже не закладывает; приехали.
Жаку одиннадцать. Он помнит священника, у которого пропал чемодан, полудрему, гостиницу, благоухающую смолой, муторное прибытие в зал, где дамы раскладывают пасьянсы, а господа курят и читают газеты. Вдруг – какая-то заминка у клетки лифта, лифт спускается и высаживает молодую пару. Юноша и девушка, темнолицые, с глазами как звезды, смеются, сверкая ослепительными зубами.
На девушке белое платье с голубым поясом. Юноша в смокинге. Слышится звон посуды, и запах кухни оскверняет коридоры.
Едва очутившись в своей комнате с видом на стену цельного льда, Жак разглядывает себя. Он сравнивает себя с этой парой. Ему хочется умереть.
Потом он с ними познакомился. Тигран д’Ибрео, сын армянина, живущего в Каире, коллекционировал марки и готовил на керосиновой лампе тошнотворные сладости. Его сестра Иджи ходила в новых платьях и стоптанных туфлях. Они танцевали друг с другом.
Стоптанные туфли и медовые лепешки были знаком царственной, но убогой расы. Жак бредил этой кухней и этой рванью. Он не видел иного средства перевоплотиться в этих двух священных кошек. Ему тут же захотелось коллекционировать марки и делать миндальные леденцы. Он нарочно портил свои новые теннисные туфли.
Иджи кашляла. У нее был туберкулез. Тигран сломал ногу на катке. Отцу слали телеграммы. Однажды утром они уехали – кашляя, хромая, в сопровождении пса, таинственного, как Анубис[2].
Жак кашлял; его мать перепугалась до безумия. Он оставил ее тревогу без внимания. Кашлял он из любви. Гуляя, он тайно хромал.
Каждый вечер после обеда он усаживался в плетеное кресло, и ему казалось, что он воочию видит Иджи в ее платье Святой Девы в освещенной рамке лифта, между лифтером и Тиграном, возносящуюся в небеса на крыльях ангелов.
С одиннадцати до восемнадцати лет он истлевал, как «армянская бумажка», которая быстро сгорает и не очень приятно пахнет.
В конце концов поездки в Швейцарию прекратились. Госпожа Форестье перевезла его с итальянских озер в Венецию.
На Лаго-Маджоре он познакомился с одним студентом, изучавшим Бергсона и Тэна. У него были белокурые усы, лорнет и скепсис переодетого Барреса[3]. Интеллект его был отточен донельзя – он смаковал его и тем истончал, как леденцовую палочку. Этот непослушный послушник науки смотрел на Борромейские острова[4] свысока. Он прозвал их «сестры Изола».
Его причуда стала для Жака откровением – ему впервые открылось, что можно вольно использовать свои пять чувств. Сам он принимал эти острова безоговорочно.
Пышный ярмарочный тир, рассыпавшийся в крошки, – это Венеция днем. Ночью это влюбленная негритянка, умирающая в ванне, вся в мишурных драгоценностях.
В вечер приезда гостиничная гондола заманчива, как ярмарочный аттракцион. Это не будничное средство передвижения. Родители, увы, этого не понимают. Венеция начнется завтра. Сегодня мы в гондоле не поедем: поедем на пароходике. Сколько у нас мест? Сегодня мы не смотрим на город, напоминающий кулисы Оперы во время антракта. На следующее утро Жак увидел толпы туристов. На площади Святого Марка захлопнутая в ловушку этой театральной декорации элегантная толпа, как на бале-маскараде, выдает все свои секреты. Самая откровенная беззастенчивость не считается ни с возрастом, ни с полом. Самые робкие наконец-то позволяют себе жест или наряд, о котором стыдились мечтать в Лондоне или Париже.
Бал-маскарад срывает маски – это факт. Ни дать ни взять отборочная комиссия. Огнями рамп, прожекторами Венеция высвечивает души во всей их наготе.
Любовный недуг Жака принял еще более изощренную форму, чем в Мюррене.
Ночью, лежа под москитной сеткой, он слышал звуки гитар, тенора. Ему мерещились какие-то темные дела. Он плакал о том, что не может быть этим городом. Сам Гелиогабал[5] в немыслимейших из своих капризов не претендовал на такое.
Студент из Бавено проездом оказался в Венеции. Он познакомил Жака с одним журналистом и с танцовщицей. Они часто гуляли вместе.
Как-то ночью журналист провожал Жака до гостиницы.
– В Париже у меня скверная компания, – сказал он. – Я люблю эту девушку, о чем она не подозревает. Вернуться к прежним связям для меня невозможно, а с другой стороны, я чувствую, порвать с ними будет нелегко.
– Но если Берта (так звали танцовщицу) вас любит…
– О, она меня не любит. Вы-то должны бы это знать. Впрочем, я собираюсь покончить с собой через два часа.
Жак съязвил по поводу классического самоубийства в Венеции и пожелал ему спокойной ночи.
Журналист покончил с собой[6]. Танцовщица любила Жака. Он этого не заметил и узнал лишь годы спустя через третье лицо.
Этот эпизод внушил ему отвращение к поэзии малярии. Еще из прогулки по садам Эдема он вынес перемежающуюся лихорадку – неприятное напоминание о поездке.
Госпожа Форестье боялась насморков, бронхитов, дорожных аварий. Опасностей, подстерегающих дух, она не видела. Она предоставляла Жаку играть с ними.
Венеция обмишурила Жака, как декорация, покоробившаяся за долгую службу, ибо каждый артист воздвигает ее хоть для одного акта своей жизни.
В музеях после двух часов внимательного обхода роскошь наездником вскакивала ему на плечи.
Разбитый усталостью, от которой сводило мышцы, он выходил, спускался по ступеням, смотрел, как палаццо Дарио, подобно престарелой певице, приветствует ложи напротив, и возвращался в гостиницу. Он восхищался бодростью пар, осматривающих Венецию с неутомимостью насекомых. Те, кто знает ее наизусть, кто сто раз уже погружал хоботок в золотую пыльцу Святого Марка, водят по ней своих новых возлюбленных. Роль чичероне омолаживает их. Единственная передышка, которую они себе позволяют, это присесть в лавке, где предмет их нежных чувств покупает стеклянные украшения, томики Уайльда и д’Аннунцио[7].
Подобно нам, у кого с ней старые счеты, Жак, при поддержке своей лихорадки, настраивал себя против этой запечатленной прелести, этого дивного замкнутого дома, куда приходят насыщаться избранные души.
Сама наша дотошность доказывает, насколько он был подвержен очарованию, которое отвергала его темная сторона.
Темная сторона – светлая сторона: таково освещение планет. Одна сторона мира отдыхает, другая работает. Но та сторона, что погружена в сон, излучает таинственную силу.
У человека эта сонная сторона, случается, оказывается в противоречии со стороной действующей. То проявляется его истинная природа. Если урок идет на пользу, пусть человек к нему прислушивается и упорядочивает свою светлую сторону; тогда темная сторона станет опасной. Ее роль изменится. С нее потянутся миазмы. Мы еще увидим Жака в борьбе с этой ночью человеческого тела.
Пока что она подстраховывает его, посылает ему противоядия, напильники, веревочные лестницы.
Не всякая помощь достигает цели. Париж – город более коварный, чем Венеция, в том смысле, что он лучше скрывает свои ловушки, и его машинерия не так наивна. О Венеции, как об определенных домах, заранее известно, что там есть вода, комната с зеркалами, комната Веронезе, изможденные красотки в розовых рубашках и риск подцепить болезнь.
А как ориентироваться в Париже?
Жак, этот парижанин, этот баловень судьбы, попал в Париж из провинции.
Так было пять месяцев назад, но где-то по пути он пересек тончайшую возрастную линию, где дух и тело делают выбор.
Его мать думала, что везет обратно того же человека, немного отвлекшегося панорамами Италии. А привезла другого. И метаморфоза эта произошла именно в Венеции. Жак осознавал ее лишь как неприятное ощущение. Он приписывал его самоубийству, которому был свидетелем, и сценам вечернего промысла под аркадами. На самом деле он оставил старую кожу плавать в Большом Канале – сухую шкурку вроде тех, что ужи нацепляют на колючки шиповника, легких, как пена, лопнувших по губам и глазам.
II
Карта нашей жизни сложена таким образом, что мы видим не одну пересекающую ее большую дорогу, но каждый раз новую дорожку с каждым новым разворотом карты. Нам представляется, что мы выбираем, а выбора у нас нет.
Один молодой садовник-перс говорит своему принцу:
– Сегодня утром мне встретилась смерть. Она сделала мне угрожающий знак. Спаси меня. Я хотел бы каким-нибудь чудом оказаться нынче вечером в Исфагане[8].
Добрый принц дает ему своих лошадей. В тот же день принц встречает смерть.
– Почему, – спрашивает он, – ты угрожала сегодня утром моему садовнику?
– Я не угрожала, – отвечает она, – то был жест удивления. Ибо он встретился мне этим утром далеко от Исфагана, между тем как сегодня вечером я должна забрать его в Исфагане.
Жак готовился к экзаменам на степень бакалавра. Родители, лишившись образцового управляющего и вынужденные весь год оставаться в Турени, поместили Жака пансионером к господину Берлину, преподавателю, проживавшему на улице Эстрапад.
Господин Берлин снимал два этажа. Себе он оставил второй, а пансионеров размещал на третьем, в пяти комнатах вдоль неприглядного коридора, освещенного газовым рожком, выкрутить который на полную мощность не позволяла замазка застарелой пыли.
По одну сторону комнаты Жака квартировал Махеддин Баштарзи, сын богатого торговца из Сент-Эжена, алжирского варианта Отейля[9], а по другую – альбинос Пьер де Марисель. Напротив жил очень юный ученик с безвольным, но очаровательным личикам. Он отзывался на прозвище Дружок.
Годом раньше в Солони[10] он и его младший брат задумали устроить каверзу своему гувернеру. Но в тот самый момент, когда они, нарядившись привидениями, подкрались в полночь к его спальне, дверь открылась, и вышла их мать в ночной сорочке и простоволосая. Дверная створка прикрывала мальчиков. Мать прошла через вестибюль, постояла, прислушиваясь, под отцовской дверью и вернулась к гувернеру, не заметив их.
Дружку так и не суждено было забыть минуту, когда они снова улеглись, не проронив ни единого слова.
Последняя комната была обителью беспорядка. Там в развале книг, тетрадей, галстуков, рубах, трубок, чернил, цилиндров, стилографов, губок, носовых платков и пледов располагался лагерем Питер Стопвэл[11], чемпион по прыжкам в длину.
Госпожа Берлин была много свежее своего мужа, вдовца по первому браку. Она жеманилась и воображала, что ученики в нее влюблены. Иногда заявлялась в чью-нибудь комнату, и тогда поспешность сокрытия каких-нибудь не относящихся к учебе занятий выставляла пансионера в дурацком виде. Она вгоняла ученика в краску пристальным взглядом и разражалась смехом.
Она декламировала Расина в местах, где приличествует молчать. Однажды ученики слышали, как, догадавшись, что ее за этим застигли, она преобразовала декламацию в кашель, плавно перешедший в молчание.
Одним из штрихов, характерных для госпожи Берлин, был следующий. В начале своего брака они с Берлиным, живя тогда за городом, сдавали комнату некоей разведенной пианистке. Берлин каждый вечер возвращался из коллежа семичасовым поездом. Как-то ему пришлось заночевать в городе. Госпожа Берлин, будучи очень пуглива, умоляла пианистку лечь с ней. Пианистка проявила отзывчивость и перебралась в супружескую постель. В какую-то неделю Берлин дважды не ночевал дома, и жена его возобновляла свою просьбу. Пианистка желала соседке доброй ночи, поворачивалась к стенке и засыпала, а утром поспешно уходила в свою комнату.
Семь лет спустя в компании, где разговор зашел об этой пианистке, причем все толковали о ее подозрительных наклонностях, госпожа Берлин загадочно улыбнулась и объявила, что «имеет все основания полагать» на основе «личного опыта»: «дурная слава этой женщины – дутая»…
Наивная в своем актерстве, она, например, надеялась выдать желаемое за действительное, когда, подав остывший чай, делала вид, будто обожглась. «Подождите, не пейте! – восклицала она. – Это же кипяток!»
Берлин смотрел на жену, на учеников, на жизнь тусклым взглядом сквозь очки.
Он носил белую бороду и шлепанцы. Его брюки были как у статиста, изображающего заднюю часть маскарадного слона. Он преподавал в Сорбонне, играл в карты в кафе «Вольтер» и шел домой спать. Этой сонливостью вовсю пользовались, отвечая вместо урока что попало и сдувая задания с уже существующих переводов.
И в довершение картины – служанка. Всякий раз другая. Их меняли каждые две недели, главным образом за чистку стенных часов Буль, которые господин Берлин заводил самолично и не терпел, чтобы к ним прикасались.
Все вышеперечисленные собирались в полдень и в восемь часов за столом, где госпожа Берлин распределяла между ними жесткое мясо.
Ее муж ел машинально. Иногда икал, и это темное содрогание колебало его, как снежную гору.
Питер Стопвэл был бы образцом античной красоты, если б прыжки в длину не вытянули в длину его самого, как плохо снятую фотографию. Он окончил Оксфорд. Оттуда шли его хладнокровная наглость, сорта его сигарет, темно-синие шарфы и многоликая аморальность под безликостью спортивной формы. Дружок любил его. По воскресеньям он таскал за ним до самого Парка де Пренс сумку с гимнастическим трико и махровым халатом.
Любить и быть любимым – вот идеал. Если, конечно, имеется в виду то же лицо. Часто это не совпадает. Дружок любил и был любим. Только любим он был практиканткой из лаборатории, а любил Стопвэла. Эта любовь ошеломляла его.
Он пал жертвой полумрака, в котором неосознанные чувства сталкиваются с сердцем.
Такая любовь льстила Стопвэлу. Он никак этого не выказывал. Холодно осаживал бедного мальчика. «Это не принято», – говорил он в ответ на детские попытки приласкаться. Или даже: «Вы, знаете ли, неопрятны. Умывайтесь. Принимайте ванну. Обтирайтесь. Вы никогда не моетесь. Кто не моется, от того дурно пахнет».
Часто замечания Стопвэла были английской манерой поддразнивания. Но Дружку были ведомы лишь азы смеха и слез. Он не понимал. И считал себя и впрямь грязным, порочным и придурковатым.
Как-то вечером, когда Дружок, сидя на краю кровати возле курящего Питера Стопвэла, благоговейно положил руку ему на плечо, Стопвэл отпихнул его и спросил, девчонка он, что ли, – вешаться на шею мужчинам?
Дружок залился слезами.
– О боже, – сказал Стопвэл, прикуривая сигарету от окурка, который отшвырнул не глядя, – вечно вы клянчите, хнычете, цепляетесь, ластитесь. Сходили бы лучше к девочкам. Возле Пантеона можно найти за пятьдесят сантимов.
Марисель был шестым сыном в захудалой дворянской семье. Хронический запор бесконечно удерживал этого альбиноса в одном месте, которое из-за него становилось недоступным. В семье Марисель считалось, что разрешать такого рода проблемы следует только терпением, так что младший сын умер от разрыва аневризмы, пытаясь пересилить судьбу.
– У вас, французов, – говорил Стопвэл Дружку, – грязные вкусы. Мольер только и пишет что о клистирах.
Дружок вешал нос и не решался переступить осмеянный порог.
Махеддин Баштарзи, турок по происхождению, хранил верность феске. Таковых у него было три: одна красная, одна из серого меха, одна каракулевая. Он был крупный, жирный пустой малый. На его визитных карточках красовалась странная надпись:
Махеддин Баштарзи
Инспектор
Он писал стихи; нюхал эфир. Однажды, когда эфиром запахло слишком сильно, Жак вошел к нему в комнату и застал хозяина в феске, сидящим в распахнутом окне. Слюняво распустив губы, одной рукой зажимая левую ноздрю, а другой поднося к правой аптечную склянку, он покачивался, не слыша Жака, оглушенный льдистыми цикадами наркотика.
О такой ли среде мечтала для сына мнительная мать, опасающаяся микробов и сквозняков?
Только Жак, несколько дней подичившись, начал осваиваться в заведении Берлина, как спокойствие было нарушено трагикомической интермедией. Дружок заболел, и характер недуга не оставлял сомнений в его происхождении.
Господин Берлин исповедовал больного. Он узнал, что бедный мальчик последовал совету Стопвэла, поняв его буквально. Дружок рыдал.
– Невероятно! – восклицала госпожа Берлин.
Однако не следовало допускать огласки.
Жак навещал больного каждый день. Однажды вечером Дружок безжизненным голосом попросил узнать у Питера, почему тот ни разу к нему не зашел.
Стопвэл, окутанный облаком, штудировал Огюста Конта.
– Почему? – сказал он. – Да потому, что он мне противен. Уж не думаете ли вы, что мне хочется видеть парня, который спит с больными девками? Что до меня, то я не сплю ни с кем.
– Это жестоко, – пролепетал Жак. – Бедный мальчик, он просит о такой малости.
– Малость! Если бы товарищи по клубу увидели меня, когда он мусолит мне руки… По-моему, вы забываетесь.
Это «если бы товарищи по клубу увидели» прозвучало, как в устах девственницы «если бы моя мать увидела».
Жак собирался уйти, как вдруг Питер, распечатывая пачку сигарет, придержал его за рукав.
– Вы что, возвращаетесь к этой мартышке? В Оксфорде мы с такими обращаемся, как со слугами. Бросьте, посидите со мной.
Хватка у него была геркулесовская. Он усадил Жака на сундук.
Довольно ли было одного этого жеста, чтобы маска упала? Так розы теряют округлость ланит, едва толкнешь вазу. Жак увидел незнакомое лицо, утратившее всякую апатичность и совсем нагое.