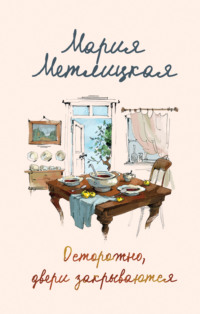
Осторожно, двери закрываются
Сенька, важный, как деревенский гусак, в кожанке и блестящих сапогах, в черном картузе с красным околышем, служил новой власти.
– Как же так? – охая, приговаривала ошарашенная Катя. – Ты теперь у них?
– У них, – подтвердил Сенька. – И дело наше правое. – Он харкнул на землю, растер плевок сапогом и усмехнулся. – Я-то у них, – с насмешкой повторил он, – а ты, Катька, дура!
Катя обиду проглотила, не до того. Осторожно спросила:
– А что за мной не пришел?
– Да некогда было, дела у нас важные, тебе не понять.
Катя поняла, что больше им говорить не о чем, и стала было прощаться, но Сенька схватил ее за руку и потащил за собой.
Брат устроил ее в общежитие и выдал талоны в столовую. Общежитие было хорошее, светлое и просторное, бывшие меблированные комнаты, из тех, что сдавали внаем. С Катей жили три девушки, шумные, отчаянные, веселые, не чета ей, грустной, напуганной.
В столовой Катя немножко отъелась и еще поняла: брат – человек не последний, с ним считаются, уважают.
Позже Сенька устроил ее на работу, ученицей машинистки. Через три месяца Катя ловко и быстро печатала на ремингтоне.
Жизнь, казалось, налаживалась. Но покоя по-прежнему не было. Во-первых, она все думала, как там в деревне, скучала по сестрам. А во-вторых… Не нравились Кате все эти люди. Не нравились. Хмурые, с красными от вечного недосыпа глазами, с нарочито громкими голосами, с суровыми лицами. Говорили они рублеными, малопонятными фразами и все время к чему-то призывали.
Катя не высовывалась, сидела за своим ремингтоном и помалкивала. Сенькиных соратников она откровенно боялась.
Через год она вышла замуж. Муж Федор был товарищем братца Семена и, разумеется, пламенным коммунистом. Любила ли его Катя? Да так и не поняла. Но с мужем было спокойнее. У нее появилась защита.
После скромной свадьбы с винегретом, селедкой и вареной картошкой молодые переехали в семейную комнату, крошечную, в семь метров, но свою, отдельную. Нет, счастье, конечно. Но Катя часто вспоминала родительский дом, их с братом и сестрами детские комнаты, белые крахмальные занавески в кружевах, простую, но милую посуду, комодик с девичьими вещицами, и грустила. В новой жизни презирали уют.
– Это мещанство! – орал Сенька. – Выбрось ты все это на хрен! – Он кивал на бархатную, вышитую еще мамочкой подушечку, Катин талисман, который уцелел с переездами и прочими неприятностями.
– Это же мамино! – вспыхивала Катя и начинала рыдать. – Как же ты можешь?
– Мамино, папино! – не унимался брат. – Выкинь на хрен! И всех делов.
Муж Федор тоже был за аскетизм. В их семейной комнатке стояла одна кровать. Подоконник Катя застелила куском отбеленной марли, ею и прикрывала посуду – две алюминиевые миски, две кружки, две ложки и нож. Вилок у них не было. На другом краю подоконника расположились небольшое полукруглое зеркальце, расческа, щетки и зубной порошок.
Как Катя ни старалась, никакого уюта не получалось. Казарма, а не семейная комната!
Она отрезала кусок простыни, налила в таз воду, капнула в нее чернил, и к вечеру на окошке висели голубоватые занавески. Сбегала в палисадник, нарвала веток вербы, воткнула их в бутылку от вина и поставила на стол. Вот теперь красота, любовалась Катя. Теперь дом!
Вернувшийся со службы муж перемен не заметил. Ну и ладно, а то, не дай бог, заругался бы и объявил мещанкой. А что плохого в мещанстве? Например, в занавесках? Или в абажуре над столом? И почему есть вилками тоже мещанство? Так было всегда, и зачем эти люди, включая ее братца Сеньку и мужа Федьку, со всем эти борются?
Потом повезло – с помойки притащила тумбочку, табуретку и стул, муж вбил в стену пару гвоздей, вот и шкаф для одежды. Впрочем, какая там одежда – смешно.
Через год Катя родила сына Ванечку. Ванечку она потеряет с сорок четвертом. Похоронка на сына придет в самом конце войны. Брат Сенька погибнет в июле сорок третьего на Курской дуге. Странное дело, по брату Катя не плакала. Помолилась за упокой, да и забыла. А мужа Катя потеряет еще раньше, в тридцать седьмом, в самом начале репрессий. В сорок первом, уже вдовой, она уедет из столицы в эвакуацию и попадет на Урал, в Пермскую область, поселок Верещагино. Там и сойдется с хорошим человеком, Исаем Ильичом, сапожником, инвалидом и старым холостяком. В загс они не пойдут – ни к чему, взрослые люди.
Катя работала нянечкой в поселковой больнице, а потом окончила курсы медсестер. Теперь у нее была настоящая профессия, и она очень этим гордилась. В сорок третьем, когда открыли Москву, Катя стала звать Ильича с собой.
– Давай распишемся и уедем, – уговаривала его Катя. – Восстановлю комнату, устроишься на работу, я пойду медсестрой в больницу.
Оставаться в провинции она не хотела. Но Исай Ильич уезжать не хотел, боялся столицы, боялся большого, шумного города. А Катя начала собираться. Ждала разрешения. А когда дождалась, поняла, что беременна.
Что делать? Открыться сожителю? Да Исай будет счастлив, станет носить ее на руках! Но это означало и то, что ей и ребенку придется остаться здесь, в Верещагино. И Катя все скрыла. Попрощалась с Исаем, собрала чемодан и попросила ее не провожать – побоялась, что не выдержит, признается.
Совесть мучила страшно, хорошим он был человеком, этот Исай, прекрасно к ней относился. Любила ли она его? Да снова не понимала. Да и что такое любовь? Этого Катя так и не знала.
Вернулась в Москву, с огромным трудом выбила комнату, заселилась, устроилась на работу в больницу. Оплакивала сына, молилась по ночам. Ждала дочку. Ничего не знала о сестрах. Вечером ложилась на кровать и плакала.
Родила девочку – счастье! Понемногу стала приходить в себя, оттаивать сердцем. Дочку она обожала, буквально тряслась на ней.
Когда дочь подросла, отдала ее в ясли, работала, кое-как жила. На мужчин не смотрела, не до того. Да и зачем – у нее была дочка, она понимала, что не одна: дочь есть дочь, и они всегда будут рядом. Думала написать Исаю, признаться – а вдруг? Вдруг приедет? Вдвоем им будет легче, будет семья.
Через четыре года собралась с духом и написала в Верещагино. Ответ пришел спустя пару месяцев. Писала племянница, новость была ужасной – Исай Ильич тяжело заболел, ухаживать за ним было некому. Катя поехала в Верещагино. Полуживого, почти не ходячего, Катя привезла Исая Ильича в Москву. Положила к себе в больницу, где ему сделали операцию. Ухаживала за ним, выносила горшки, кормила с ложечки.
– Значит, любила? – допытывался внук. – Иначе зачем?
– Любила, не любила… Не знаю! – отвечала баба Катя. – А вот жалела точно. И бросить не могла – живой ведь человек, да и отец моей дочки!
Спустя много лет Свиридов почему-то это вспомнил: «Любила, не любила, а вот жалела точно». Подумал, в России именно так. Любовь – жалость. Жалость – любовь. Нигде этого нет. А может, это и правильно? В смысле, жалость – любовь?
Дочку, маленькую Люсечку, Исай Ильич обожал и занимался с ней, как мог, – научил читать, считать, оставался с ней по вечерам и по ночам, когда у Кати были ночные дежурства. А работала она много – как выжить втроем, да на одну зарплату? Кто там за кем ухаживал, непонятно: дочка за тяжело больным отцом или отец за маленькой девочкой. «Битый небитого везет», – говорила Катя.
Но как-то жили, выживали. Тогда, в тяжелые послевоенные времена, все выживали.
– А, – махала рукой бабка. – А когда они были легкими? На своем веку не припомню.
Исай Ильич прожил долго, почти восемь лет, даже врачи удивлялись: «Это все вы, Катерина Ивановна. Если бы не ваш уход…» Похоронив его, Катя снова осталась одна. Старела, дряхлела, уставала, но надо было поднимать дочь. Слава богу, Люсечка была благополучной – поступила в институт, вышла замуж, родила любимого внука, которого Катя и растила.
В конце шестидесятых поехали в Катину деревню в надежде отыскать остатки родни. Маленький Женя помнил эту поездку, свое первое путешествие. В деревне из родни никого не осталось. Никого. Всех унесла война. Война и голод. И даже могил не было. «Негде поплакать», – вздыхала баба Катя. Перед смертью она ослепла, и Свиридов, тогда еще подросток, водил ее за руки в ванную и на кухню. Мать много работала, отец давно жил в другой семье. А баба Катя еще трепыхалась, пыталась чем-то помочь. Кстати, о зяте, свиридовском отце, баба Катя отзывалась с недоброй усмешкой, все про него понимала. Когда мать жаловалась на мужа, она радостно подхватывалась: «Зять любит взять, у этих зятей много затей, нет черта в доме – прими зятя». Мама злилась и цыкала на бабушку, а Свиридов ничего не понимал, кроме одного – баба Катя отца не любит. Он прибегал из школы, кормил ее, водил в туалет. Жили они с бабой Катей в одной комнате, в проходной, в «зале» – вытянутой комнате в шестнадцать метров. А родительская, мамина, запроходная, была еще меньше, девять метров. Жили они в обычной пятиэтажке, и все равно это тогда было счастьем – своя, отдельная! И это после барака на Плющихе, безо всяких удобств, с водой на колонке, с холодным дощатым сортиром! Да, пятиэтажка казалась им раем.
Свиридов часто думал про жизнь бабы Кати. Какая там жизнь – сплошная мука. И никаких, никаких человеческих радостей, даже самых обычных, простецких! Сплошные беды, сплошные несчастья.
Когда он рассказывал это жене Валентине, та упрямо повторяла:
– Такая судьба! Господи, да разве у нее у одной? Да вся страна так жила. Вся, понимаешь? Ткни пальцем – и попадешь.
Свиридов начинал возмущаться, меряя шагами их крошечную восьмиметровую комнату.
– Да как ты так можешь? Ты образованный человек, учитель! Да ты страус, прячущий голову в кучу песка, потому что тебе так спокойней! И ни про меня, ни про дочь ты не думаешь! Надо уезжать, надо дать себе шанс! Себе и своему ребенку!
Валя начинала плакать и умолять, чтобы он не кричал – за тонкой стенкой спали ее родители, Петр Петрович и Анна Ивановна. Прекрасные люди, терпеливые трудяги. Они и вправду были замечательными людьми – скромными, неприхотливыми и всем довольными. У них все было как надо и как правильно. Теща, тихая Анна Ивановна, по болезни ушла на раннюю пенсию, заработав тяжелую астму на прядильном производстве. С тех пор вела хозяйство и политикой не интересовалась, забот ей и так хватало. А вот тесть, Петр Петрович, был метростроевцем, убежденным коммунистом, возглавлял бригаду коммунистического труда. «Правду» читал от корки до корки. Когда что-то не нравилось, нервно покрякивал, но власть не хаял и не обсуждал.
Когда они с Валентиной собирались после свадьбы снимать комнату, родители запротестовали: к чему тратить деньги? И Валентина их поддержала.
– Там будет легче и проще, – уверяла она. – Все готово, все подадут и уберут, а мы с тобой молодые, будем радоваться свободе!
В принципе все так и было. Только… нет, не нравилось ему быть приживалом. Но молчал – а что тут скажешь? На съемную комнату денег не было, если из зарплаты, то останется на хлеб и на воду. Как-то приноровился, было действительно очень удобно, полная свобода, и все-таки он часто думал: «Разве это семья?»
Приняли тесть с тещей его хорошо, а вот что было у них на сердце? Вряд ли они радовались Валентининому выбору: какой-то невнятный художник, без жилья и денег, да еще и с диссидентскими замашками! А эти его дружки, эти бородатые и пьющие дядьки в растянутых свитерах и нечищеных ботинках? Все, как один, поборники Запада, слушают радио «Свобода» и поносят на чем свет советскую власть. А сколько у красавицы Вальки было парней, нормальных, работящих, понятных. Был один инженер, Вася Сокол. Какой парень и как бегал за Валей! Но старики молчали, отдали дочери с мужем комнату – живите! Кормили и поили. Денег Свиридов зарабатывал мало и редко – участь художника.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов