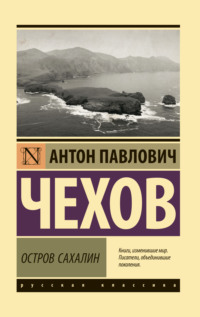
Остров Сахалин
Четвертая строка: имя, отчество и фамилия. Насчет имен могу только вспомнить, что я, кажется, не записал правильно ни одного женского татарского имени. В татарской семье, где много девочек, а отец и мать едва понимают по-русски, трудно добиться толку и приходится записывать наугад. И в казенных бумагах татарские имена пишутся тоже неправильно.
Случается, что православный русский мужичок на вопрос, как его зовут, отвечает не шутя: «Карл». Это бродяга, который по дороге сменился именем с каким-то немцем. Таких, помнится, записано мною двое: Карл Лангер и Карл Карлов. Есть каторжный, которого зовут Наполеоном. Есть женщина-бродяга Прасковья, она же Марья. Что касается фамилий, то по какой-то странной случайности на Сахалине много Богдановых и Беспаловых. Много курьезных фамилий: Шкандыба, Желудок, Безбожный, Зевака. Татарские фамилии, как мне говорили, сохраняют и на Сахалине, несмотря на лишение всех прав состояния, приставки и частицы, означающие высокие звания и титулы. Насколько это верно, не знаю, но ханов, султанов и оглы записал я немало. У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий. Вот несколько бродяжеских прозвищ: Мустафа Непомнящий, Василий Безотечества, Франц Непомнящий, Иван Непомнящий 20 лет, Яков Беспрозвания, бродяга Иван 35 лет[12], Человек Неизвестного Звания.
В этой же строке я отмечал отношения записываемого к хозяину: жена, сын, сожительница, работник, жилец, сын жильца и т. д. Записывая детей, я отличал законно- и незаконнорожденных, родных и приемных. Кстати сказать, приемыши часто встречаются на Сахалине, и мне приходилось записывать не только приемных детей, но и приемных отцов. Многие из живущих в избах относятся к хозяевам как совладельцы или половинщики. В обоих северных округах на одном участке сидят по два и даже по три владельца, и так – больше, чем в половине хозяйств; поселенец садится на участок, строит дом и обзаводится хозяйством, а через два-три года ему сажают совладельца или же один участок дают сразу двум поселенцам. Это происходит от нежеланья и неуменья администрации приискивать новые места для поселений. Бывает и так, что отбывший каторгу просит, чтобы ему позволили поселиться в таком посту или селении, где усадебных мест уже нет, и его поневоле приходится сажать уже на готовое хозяйство. Количество совладельцев особенно увеличивается после объявления высочайших манифестов, когда администрация бывает вынуждена приискивать места сразу для нескольких сотен душ.
Пятая строка: возраст. Женщины, которым уже за сорок, плохо помнят свои лета и отвечают на вопрос, подумав. Армяне из Эриванской губ(ернии) совсем не знают своего возраста. Один из них ответил мне так: «Может, тридцать, а может, уже и пятьдесят». В таких случаях приходилось определять возраст приблизительно, на глаз, и потом проверять по статейному списку. Молодежь 15 лет и постарше обыкновенно убавляет свои лета. Иная уже невеста или давно уже занимается проституцией, а все еще 13-14 лет. Дело в том, что дети и подростки в беднейших семьях получают от казны кормовые, которые выдаются только до 15 лет, и тут молодых людей и их родителей простой расчет побуждает говорить неправду.
Шестая строка относилась к вероисповеданию. Седьмая: где родился? На этот вопрос мне отвечали без малейшего затруднения, и только бродяги отвечали каким-нибудь острожным каламбуром или «не помню». Девица Наталья Непомнящая, когда я спросил ее, какой она губернии, сказала мне: «Всех понемножку». Земляки заметно держатся друг друга, вместе ведут компанию, и коли бегут, то тоже вместе; туляк предпочитает идти в совладельцы к туляку, бакинец к бакинцу. По-видимому, существуют землячества. Когда случалось спрашивать про отсутствующего, то земляки давали о нем самые подробные сведения.
Восьмая строка: с какого года на Сахалине? Редкий сахалинец отвечал на этот вопрос сразу, без напряжения. Год прибытия на Сахалин – год страшного несчастья, а между тем его не знают или не помнят. Спрашиваешь каторжную бабу, в каком году ее привезли на Сахалин, а она отвечает вяло, не думая: «Кто ж его знает? Должно, в 83-м». Вмешивается муж или сожитель: «Ну, что зря языком болтать? Ты пришла в 85-м». – «Может, и в 85-м», – соглашается она со вздохом. Начинаем считать, и мужик выходит прав. Мужчины не так туги, как бабы, но и они дают ответ не сразу, а подумав и поговорив.
– Тебя в каком году пригнали на Сахалин? – спрашиваю я поселенца.
– Я одного сплава с Гладким, – говорит он неуверенно, поглядывая на товарищей.
Гладкий первого сплава, а первый сплав, то есть первый «Доброволец», пришел на Сахалин в 1879 г. Так и записываю. Или бывает такой ответ: «В каторге я пробыл шесть лет, да вот в поселенцах уж третий год… Вот и считайте». – «Значит, ты на Сахалине уже девятый год?» – «Никак нет. До Сахалина я еще в централе отсидел два года». И т. д. Или такой ответ: «Я пришел в тот год, когда Дербина убили». Или: «Тогда Мицуль помер». Для меня было особенно важно получать верные ответы от тех, которые пришли сюда в шестидесятых и семидесятых годах; мне хотелось не пропустить ни одного из них, что, по всей вероятности, не удалось мне. Сколько уцелело из тех, которые пришли сюда 20–25 лет назад? – вопрос, можно сказать, роковой для сахалинской колонизации.
В девятой строке я записывал главное занятие и ремесло.
В десятой – грамотность. Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме: «Знаешь ли грамоте?» – я же спрашивал так: «Умеешь ли читать?» – и это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по-печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. «Где уж нам? Какая наша грамота?» – и лишь при повторении вопроса говорят: «Разбирал когда-то по-печатному, да теперь, знать, забыл. Народ мы темный, одно слово – мужики». Неграмотными называют себя также плохо видящие глазами и слепые.
Одиннадцатая относилась к семейному состоянию: женат, вдов, холост? Если женат, то где: на родине, на Сахалине? Слова «женат, вдов, холост» на Сахалине еще не определяют семейного положения; здесь очень часто женатые бывают обречены на одинокую безбрачную жизнь, так как супруги их живут на родине и не дают им развода, а холостые и вдовые живут семейно и имеют по полдюжине детей; поэтому ведущих холостую жизнь не формально, а на самом деле, хотя бы они значились женатыми, я считал не лишним отмечать словом «одинок». Нигде в другом месте России незаконный брак не имеет такого широкого и гласного распространения и нигде он не облечен в такую оригинальную форму, как на Сахалине. Незаконное, или, как называют здесь, свободное, сожительство не встречает себе противников ни в начальстве, ни в духовенстве, а, наоборот, поощряется и санкционируется. Есть поселения, где не встретишь ни одного законного сожительства. Свободные пары составляют хозяйства на тех же основаниях, как и законные; они рождают для колонии детей, а потому нет причин при регистрации создавать для них особые правила.
Наконец, двенадцатая строка: получает ли пособие от казны? Из ответов на этот вопрос я хотел выяснить, какая часть населения не в состоянии обойтись без матерьяльной поддержки от казны, или, другими словами, кто кормит колонию: она сама себя или казна? Пособие от казны, кормовое или вещевое, или денежное, обязательно получают все каторжные, поселенцы в первые годы по отбытии каторги, богадельщики и дети беднейших семей. Кроме этих официально признанных пенсионеров, я отметил живущими на счет казны также и тех ссыльных, которые получают от нее жалованье за разные услуги, например: учителя, писаря, надзиратели и т. п. Но ответ получился неполный. Кроме обычных пайков, кормовых и жалований, в широких размерах практикуется еще выдача таких пособий, которые невозможно отметить на карточках, например: пособие при вступлении в брак, покупка у поселенцев зерна по умышленно дорогой цене, а главное, выдача семян, скота и пр. в долг. Иной поселенец должен в казну несколько сот рублей и никогда их не отдаст, но я поневоле должен был записать его не получающим пособия.
Каждую женскую карточку я перечеркивал вдоль красным карандашом и нахожу, что это удобнее, чем иметь особую рубрику для отметки пола. Я записывал только наличных членов семьи; если мне говорили, что старший сын уехал во Владивосток на заработки, а второй служит в селении Рыковском в работниках, то я первого не записывал вовсе, а второго заносил на карточку в месте его жительства.
Я ходил из избы в избу один; иногда сопровождал меня какой-нибудь каторжный или поселенец, бравший на себя от скуки роль проводника. Иногда за мной или на некотором расстоянии следовал, как тень, надзиратель с револьвером. Это посылали его на случай, если я потребую каких-нибудь разъяснений. Когда я обращался к нему с каким-нибудь вопросом, то лоб у него мгновенно покрывался потом, и он отвечал: «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» Обыкновенно спутник мой, босой и без шапки, с моею чернильницей в руках, забегал вперед, шумно отворял дверь и в сенях успевал что-то шепнуть хозяину – вероятно, свои предположения насчет моей переписи. Я входил в избу. На Сахалине попадаются избы всякого рода, смотря по тому, кто строил – сибиряк, хохол или чухонец, но чаще всего – это небольшой сруб, аршин в шесть, двух- или трехоконный, без всяких наружных украшений, крытый соломой, корьем и редко тесом. Двора обыкновенно нет. Возле ни одного деревца. Сараишко или банька на сибирский манер встречаются редко. Если есть собаки, то вялые, не злые, которые, как я говорил уже, лают на одних только гиляков, вероятно, потому, что те носят обувь из собачьей шкуры. И почему-то эти смирные, безобидные собаки на привязи. Если есть свинья, то с колодкой на шее. Петух тоже привязан за ногу.
– Зачем это у тебя собака и петух привязаны? – спрашиваю хозяина.
– У нас на Сахалине все на цепи, – острит он в ответ. – Земля уж такая.
В избе одна комната, с русскою печкой. Полы деревянные. Стол, два-три табурета, скамья, кровать с постелью или же постлано прямо на полу. Или так, что нет никакой мебели и только среди комнаты лежит на полу перина, и видно, что на ней только что спали; на окне чашка с объедками. По обстановке это не изба, не комната, а скорее, камера для одиночного заключения. Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похоже на хозяйство и на крестьянство, но все же и там чувствуется отсутствие чего-то важного; нет деда и бабки, нет старых образов и дедовской мебели, стало быть, хозяйству недостает прошлого, традиций. Нет красного угла, или он очень беден и тускл, без лампады и без украшений, – нет обычаев; обстановка носит случайный характер, и похоже, как будто семья живет не у себя дома, а на квартире или будто она только что приехала и еще не успела освоиться; нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка… а главное, нет родины.
Картины, которые я встречал, обыкновенно не говорили мне о домовитости, уютности и о прочности хозяйств. Чаще всего я встречал в избе самого хозяина, одинокого, скучающего бобыля, который, казалось, окоченел от вынужденного безделья и скуки; на нем вольное платье, но по привычке шинель накинута на плечи по-арестантски, и если он недавно вышел из тюрьмы, то на столе у него валяется фуражка без козырька. Печка не топлена, посуды только и есть, что котелок да бутылка, заткнутая бумажкой. Сам он о своей жизни и о своем хозяйстве отзывается насмешливо, с холодным презрением. Говорит, что уже всякие способы перепробовал, но никакого толку не выходит; остается одно: махнуть на все рукой. Пока говоришь с ним, в избу собираются соседи, и начинается разговор на разные темы: о начальстве, климате, женщинах… От скуки все готовы говорить и слушать без конца. Бывает и так, что, кроме хозяина, застаешь в избе еще целую толпу жильцов и работников; на пороге сидит жилец-каторжный с ремешком на волосах и шьет чирки; пахнет кожей и сапожным варом; в сенях на лохмотьях лежат его дети, и тут же в темном и тесном углу его жена, пришедшая за ним добровольно, делает на маленьком столике вареники с голубикой; это недавно прибывшая из России семья. Дальше, в самой избе, человек пять мужчин, которые называют себя кто – жильцом, кто – работником, а кто – сожителем; один стоит около печки и, надув щеки, выпучив глаза, паяет что-то; другой, очевидно, шут, с деланно-глупою физиономией, бормочет что-то, остальные хохочут в кулаки. А на постели сидит вавилонская блудница, сама хозяйка Лукерья Непомнящая, лохматая, тощая, с веснушками; она старается посмешнее отвечать на мои вопросы и болтает при этом ногами. Глаза у нее нехорошие, мутные, и по испитому, апатичному лицу я могу судить, сколько на своем еще коротком веку переиспытала она тюрем, этапов, болезней. Эта Лукерья задает в избе общий тон жизни, и благодаря ей на всей обстановке сказывается близость ошалелого, беспутного бродяги. Тут уж о серьезном хозяйстве не может быть и речи. Приходилось также заставать в избе целую компанию, которая до моего прихода играла в карты; на лицах смущение, скука и ожидание: когда я уйду, чтобы опять можно было приняться за карты? Или входишь в избу, и намека нет на мебель, печь голая, а на полу у стен рядышком сидят черкесы, одни в шапках, другие с непокрытыми стрижеными и, по-видимому, очень жесткими головами и смотрят на меня не мигая. Если я заставал дома одну только сожительницу, то обыкновенно она лежала в постели, отвечала на мои вопросы, зевая и потягиваясь, и, когда я уходил, опять ложилась.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
На амурских пароходах и «Байкале» арестанты помещаются на палубе вместе с пассажирами III класса. Однажды, выйдя на рассвете прогуляться на бак, я увидел, как солдаты, женщины, дети, два китайца и арестанты в кандалах крепко спали, прижавшись друг к другу; их покрывала роса, и было прохладно. Конвойный стоял среди этой кучи тел, держась обеими руками за ружье, и тоже спал.
2
Лаперуз пишет, что свой остров они называли Чоко, но, вероятно, название это гиляки относили к чему-нибудь другому, и он их не понял. На карте нашего Крашенинникова (1752 г.) на западном берегу Сахалина показана река Чуха. Не имеет ли эта Чуха чего-нибудь общего с Чоко? Кстати сказать, Лаперуз пишет, что, рисуя остров и называя его Чоко, гиляк нарисовал и речку. Чоко переводится словом «мы».
3
Тут кстати привести одно наблюдение Невельского: туземцы проводят обыкновенно между берегами черту для того, чтобы показать, что от берега к берегу можно проплыть на лодке, то есть что существует между берегами пролив.
4
То обстоятельство, что трое серьезных исследователей, точно сговорившись, повторили одну и ту же ошибку, говорит уже само за себя. Если они не открыли входа в Амур, то потому, что имели в своем распоряжении самые скудные средства для исследования, а главное, – как гениальные люди, подозревали и почти угадывали другую правду и должны были считаться с ней. Что перешеек и полуостров Сахалин – не мифы, а существовали когда-то на самом деле, в настоящее время уже доказано.
Обстоятельная история исследования Сахалина имеется в книге А. М. Никольского «Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных». В этой же книге можно найти и довольно подробный указатель литературы, относящейся к Сахалину.
5
Подробности в его книге: «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849–1855 гг.».
6
Жена Невельского, Екатерина Ивановна, когда ехала из России к мужу, сделала верхом 1100 верст в 23 дня, будучи больною, по топким болотам и диким гористым тайгам и ледникам охотского тракта. Самый даровитый сподвижник Невельского, Н. К. Бошняк, открывший Императорскую гавань, когда ему было еще только 20 лет, «мечтатель и дитя», – так называет его один из сослуживцев, – рассказывает в своих записках: «На транспорте «Байкал» мы все вместе перешли в Аян и там пересели на слабый барк «Шелехов». Когда барк стал тонуть, никто не мог уговорить г-жу Невельскую первою съехать на берег. «Командир и офицеры съезжают последними, – говорила она, – и я съеду с барка тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на судне». Так она и поступила. Между тем барк уже лежал на боку…» Дальше Бошняк пишет, что, часто находясь в обществе г-жи Невельской, он с товарищами не слыхал ни одной жалобы или упрека, – напротив, всегда замечалось в ней спокойное и гордое сознание того горького, но высокого положения, которое предназначило ей Провидение. Она проводила зиму обыкновенно одна, так как мужчины были в командировках, в комнатах с 5° тепла. Когда в 1852 г. из Камчатки не пришли суда с провиантом, то все находились в более чем отчаянном положении. Для грудных детей не было молока, больным не было свежей пищи, и несколько человек умерло от цинги. Невельская отдала свою единственную корову во всеобщее распоряжение; все, что было свежего, поступало в общую пользу. Обращалась она с туземцами просто и с таким вниманием, что это замечалось даже неотесанными дикарями. А ей было тогда только 19 лет (Лейт. Бошняк. Экспедиция в Приамурском крае. – «Морской сборник», 1859, II). Об ее трогательном обращении с гиляками упоминает и ее муж в своих записках. «Екатерина Ивановна, – пишет он, – усаживала их (гиляков) в кружок на пол, около большой чашки с кашей или чаем, в единственной бывшей во флигеле у нас комнате, служившей и залом, и гостиной, и столовой. Они, наслаждаясь подобным угощением, весьма часто трепали хозяйку по плечу, посылая ее то за тамчи (табак), то за чаем».
7
«Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartaire, Chinoise et de Thibet». 1737.
8
Японец, землемер Мамиа Ринзо, в 1808 г. путешествуя в лодке вдоль западного берега, побывал на Татарском берегу у самого устья Амура и не раз плавал с острова на материк и обратно. Он первый доказал, что Сахалин остров. Наш натуралист Ф. Шмидт отзывается с большою похвалой об его карте, находя, что она «особенно замечательна, так как, очевидно, основана на самостоятельных съемках».
9
О назначении этой бухты в настоящем и будущем см. К. Скальковского «Русская торговля в Тихом океане», стр. 75.
10
Вот образчик доноса по телеграфу: «Долгом совести, семьсот двенадцатой статьи, том третий, поставлен необходимость утрудить вашество прибегнуть защите правосудия против безнаказанности за совершаемые N лихоимство, подлоги, истязания».
11
И даже несбыточные надежды. В одном селении, говоря о том, что крестьяне из ссыльных теперь уже имеют право переезда на материк, он сказал: «А потом можете и на родину, в Россию».
12
Это число составляет часть фамилии. В действительности ему 48 лет.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов