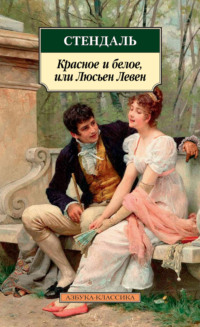
Красное и белое, или Люсьен Левен
– Честное слово, полковник, ни одна статья устава не запрещает тратить деньги тому, кто их имеет.
– Да вы с ума сошли, что так разговариваете с полковником! – шепнул ему его друг Филото, отведя его в сторону. – Он наделает вам неприятностей!
– Какую еще неприятность может он мне причинить? Мне кажется, он ненавидит меня так, как только можно ненавидеть человека, с которым видишься редко; но, конечно, я не отступлю ни на пядь перед человеком, который меня ненавидит, хотя я не дал ему никакого повода к этому. В данный момент мне пришла блажь завести ливреи, и на тот же случай я выписал из Парижа двенадцать пар рапир.
– Ах, задира!
– Ничуть, господин подполковник. Даю вам честное слово, что из всех ваших офицеров я наименее фатоватый и наиболее миролюбивый. Я желаю, чтобы никто меня не трогал, и сам никого задевать не хочу; я буду вполне вежлив, вполне сдержан со всеми, но если меня заденут, я за себя постою.
Два дня спустя полковник Малер вызвал Люсьена и с делано-непринужденным видом запретил ему иметь больше двух ливрейных лакеев. Люсьен одел своих слуг в самое элегантное штатское платье, что создавало необычайно смешной контраст с их неуклюжей, простонародной внешностью. Новые костюмы он заказал местному портному. Это обстоятельство, хотя Люсьен и не подумал о нем, было понято как насмешка и принесло ему большую честь в обществе; госпожа де Коммерси осыпала его похвалами. Что же касается госпожи д’Окенкур и госпожи де Пюи-Лоранс, они были от него без ума.
Люсьен написал матери об истории с ливреями; полковник, со своей стороны, довел ее до сведения министра. Люсьен этого ожидал. Он заметил, что в ту пору в гостиных Нанси к нему стали относиться с большим уважением; объяснялось это тем, что доктор Дю Пуарье показал ответные письма своих парижских друзей, у которых он осведомлялся о положении и капитале дома «Ван-Петтерс, Левен и Ко». Ответы эти были как нельзя более благоприятны. «Эта фирма, – сообщали ему, – принадлежит к числу тех немногих, которые при случае либо покупают сведения у министров, либо делят с ними пополам барыши, полученные в результате этих сведений».
Господин Левен-отец был особенно склонен к этим не совсем опрятным делам, которые, если заниматься ими долго, приводят к разорению, но придают человеку вес и приносят ему полезные связи. Во всех присутственных местах у него были свои люди, и его вовремя предупредили о доносе, посланном на его сына полковником Малером де Сен-Мегреном.
История с ливреями его весьма позабавила, он ею занялся, и месяц спустя полковник де Сен-Мегрен получил по этому поводу из министерства крайне неприятное письмо.
Ему очень хотелось услать Люсьена подальше, в промышленный город, где рабочие уже начали организовывать Общества взаимной помощи. Но так как, будучи командиром части, надо уметь подавлять свои желания, полковник, встретив Люсьена, сказал ему с фальшивой улыбкой простолюдина, пытающегося слукавить:
– Молодой человек, мне сообщили о вашем послушании: я имею в виду ливреи; я вами доволен; заводите себе столько ливрейных лакеев, сколько вам заблагорассудится, но поберегите кошелек папаши!
– Покорнейше благодарю вас, полковник, – неторопливо ответил Люсьен, – папаша писал мне об этом; готов даже биться об заклад, что он виделся с министром.
Улыбка, сопровождавшая последние слова, глубоко задела полковника. «Ах, если бы я не был полковником и не стремился к чину генерал-майора, – подумал Малер, – каким славным ударом шпаги поплатился бы ты за свои слова, высокомерный нахал!» – И он поклонился корнету решительно и резко, как старый солдат.
Таким-то образом, сочетая силу с осмотрительностью, как говорится в нравоучительных книжках, Люсьен действительно удвоил ненависть, которую к нему питали в полку; но в лицо ему не привелось услышать ни одной колкости. Многие из его сослуживцев были с ним любезны, но он усвоил себе дурную привычку говорить с ними ровно столько, сколько требовала самая строгая вежливость. Благодаря такому приятному образу жизни он смертельно скучал и не принимал участия в развлечениях молодых офицеров его возраста: он отдавал дань порокам своего века.
К этому времени впечатление новизны, произведенное на душу нашего героя обществом Нанси, совершенно притупилось. Люсьен знал наизусть всех персонажей. Ему оставалось только философствовать. Он находил, что здесь больше непринужденности, чем в Париже, но естественным следствием ее было то, что глупцы в Нанси были куда более несносны. «Чего совершенно недостает этим людям, даже самым лучшим из них, это оригинальности». Оригинальность Люсьен замечал иногда лишь у доктора Дю Пуарье и у госпожи де Пюи-Лоранс.
Глава тринадцатая
Люсьен в обществе никогда не встречал госпожу де Шастеле, видевшую, как он упал с лошади в день своего приезда в Нанси. Он забыл о ней, но по привычке почти ежедневно проезжал по улице Помп. Правда, он чаще смотрел на либерального офицера, шпионившего у читальни Шмидта, чем на ярко-зеленые жалюзи.
Однажды, после полудня, жалюзи были подняты; Люсьен увидел красивую оконную занавеску из вышитого белого муслина; он сейчас же, почти бессознательно, пришпорил свою лошадь. Под ним была не английская лошадь префекта, а маленькая венгерская лошадка, которой это очень не понравилось. Венгерка так разозлилась и начала выделывать такие необычайные прыжки, что Люсьен два или три раза чуть не вылетел из седла.
«Как, на том же самом месте!» – думал он, краснея от гнева, и, в довершение беды, в самый критический момент заметил, что занавесочка немного отодвинулась от оконной рамы. Было ясно, что кто-то глядел на него. И в самом деле, это была госпожа де Шастеле. «Ах, вот мой юный офицер, он сейчас опять упадет!» – подумала она. Она часто видела его, когда он проезжал; костюм его всегда был вполне элегантен, однако в нем самом не было ни малейшего фатовства.
Кончилось дело тем, что Люсьену пришлось пережить ни с чем не сравнимое унижение: маленькая венгерская лошадка сбросила его на землю шагах в десяти от того места, где он упал в день вступления полка в город. «Похоже на то, что это судьба, – подумал он, вновь садясь на лошадь, вне себя от гнева. – Мне предназначено быть посмешищем в глазах этой молодой женщины».
В продолжение всего вечера он не мог утешиться. «Я должен был бы искать с нею встречи, – подумал он, – чтобы узнать, может ли она смотреть на меня без смеха».
Вечером у госпожи де Коммерси Люсьен рассказал о своей неудаче, которая стала событием дня, и имел удовольствие выслушивать, как о ней рассказывали всякому вновь входившему гостю. К концу вечера он услыхал, что кто-то произнес имя госпожи де Шастеле; он спросил у госпожи де Серпьер, почему ее никогда не видно в свете. «С ее отцом, маркизом де Понлеве, случился припадок подагры, и дочь, хотя и воспитана в Париже, считает своим долгом проводить с ним время; кроме того, мы не имеем удовольствия ей нравиться».
Дама, сидевшая рядом с госпожою де Серпьер, сказала несколько язвительных слов, к которым госпожа де Серпьер еще кое-что добавила.
«Но, – подумал Люсьен, – это же чистая зависть; или в самом деле поведение госпожи де Шастеле дает им право так отзываться о ней?» И он вспомнил то, что господин Бушар, станционный смотритель, говорил ему в день его приезда о господине де Бюзане де Сисиле, подполковнике 20-го гусарского.
На следующий день все время, пока шло учение, Люсьен не мог думать ни о чем другом, кроме своего вчерашнего несчастья. «Однако верховая езда, быть может, единственная вещь на свете, которая мне вполне удается. Я танцую очень плохо, я далеко не блистаю в гостиных; ясно, провидение захотело посрамить меня… Черт возьми! Если я когда-нибудь встречу эту женщину, надо будет ей поклониться: мои падения познакомили нас друг с другом; если она сочтет мой поклон за дерзость, тем лучше: воспоминание о моем поклоне положит какую-то грань между настоящим моментом и картиной моих смехотворных падений».
Четыре или пять дней спустя Люсьен, идя пешком в казармы на чистку лошади, увидел в десяти шагах от себя, на повороте улицы, довольно высокого роста женщину в очень простенькой шляпке. Ему показалось, что он узнал эти волосы, редкие по красоте и цвету, словно покрытые глянцем, поразившие его три месяца назад. Это и в самом деле была госпожа де Шастеле. Он очень удивился, увидев легкую и молодую походку, свойственную парижанкам.
«Если она узнает меня, она не удержится и расхохочется мне в лицо».
Он посмотрел ей в глаза; но их простое и серьезное выражение говорило лишь о немного грустной задумчивости и было далеко от насмешки.
«Ну конечно, – подумал он, – никакой насмешки не было во взгляде, который она была вынуждена обратить на меня, проходя так близко. Она посмотрела на меня невольно, как смотрят на препятствие, на вещь, которую встречают на улице… Очень лестно! Я сыграл роль какой-нибудь телеги. В ее прекрасных глазах была даже застенчивость… Но все-таки узнала ли она во мне злополучного ездока?»
О своем намерении поклониться госпоже де Шастеле Люсьен вспомнил после того, как она прошла: ее скромный и даже робкий взор был так благороден, что, когда она поравнялась с Люсьеном, он, помимо своей воли, потупил глаза.
Три долгих часа, которые заняло в это утро учение, показались нашему герою короче, чем обычно; он непрерывно представлял себе этот вовсе не провинциальный взгляд, встретившийся с его взором. «С тех пор, что я в Нанси, у моей скучающей души только одно желание: рассеять смешное впечатление, которое составилось обо мне у этой молодой женщины… Я был бы не только скучающим человеком, но к тому же и глупцом, если бы не сумел привести в исполнение этот невинный замысел».
Вечером он удвоил свою предупредительность и внимание к госпоже де Серпьер и к пяти-шести ее близким приятельницам, собравшимся вокруг нее; он с большим воодушевлением слушал бесконечные злобные нападки на двор Людовика-Филиппа, закончившиеся язвительной критикой госпожи де Сов д’Окенкур. Этот искусный маневр позволил ему по прошествии часа подойти к маленькому столику, за которым работала мадемуазель Теодолинда. Он сообщил ей и ее подругам новые подробности своего последнего падения.
– Хуже всего, – прибавил он, – что у меня были зрители, наблюдавшие эту картину уже не в первый раз.
– Кто же именно? – спросила мадемуазель Теодолинда.
– Молодая женщина, занимающая второй этаж особняка Понлеве.
– А, госпожа де Шастеле!
– Это меня отчасти утешает: о ней говорят много дурного.
– Дело в том, что она возносит себя выше облаков; в Нанси ее не любят; впрочем, мы знаем ее только по нескольким светским визитам или, вернее, – прибавила добрая Теодолинда, – мы ее совсем не знаем. Она с большим опозданием отдает визиты. Я сказала бы, что ей свойственна какая-то беспечность и что она скучает вдали от Парижа.
– Часто, – сказала одна из юных подруг мадемуазель Теодолинды, – она велит закладывать карету, а через час или два ожидания лошадей распрягают; говорят, она чудачка, нелюдимка.
– Как досадно женщине, хоть немного чуткой, – продолжала Теодолинда, – не иметь возможности разок протанцевать с мужчиной, без того чтобы он не высказал намерения на ней жениться!
– Полная противоположность тому, что происходит с нами, бедными бесприданницами, – подхватила подруга. – Ну, конечно, она самая богатая вдова в наших краях.
Заговорили о крайне властном характере господина де Понлеве. Люсьен все ждал, что назовут имя господина де Бюзана. «Как я рассеян, – сообразил он наконец, – разве подобает юным девицам замечать подобные вещи?»
Молодой блондин пошлого вида вошел в гостиную.
– Посмотрите, – сказала Теодолинда, – вот, вероятно, человек, который больше всех надоел госпоже де Шастеле; это господин де Блансе, ее кузен, который в течение пятнадцати, если не двадцати лет любит ее; он часто и с грустью говорит об этой любви, которая удвоилась с тех пор, как госпожа де Шастеле стала очень богатой вдовой. Притязаниям господина де Блансе покровительствует господин де Понлеве; господин Де Блансе его покорный слуга, и тот три раза в неделю приглашает его обедать с дорогой кузиной.
– Однако мой отец уверяет, – заметила подруга мадемуазель Теодолинды, – что господин де Понлеве боится только одной вещи на свете: замужества дочери. Он пользуется господином де Блансе как средством удалить других претендентов; самому же господину де Блансе никогда не получить этого прекрасного состояния, управление которым сохраняет за собой господин де Понлеве; потому-то отец и не хочет, чтобы дочь возвратилась в Париж.
– Господин де Понлеве, – сказала мадемуазель Теодолинда, – несколько дней назад, когда у него кончился припадок подагры, сделал ужасную сцену дочери за то, что она не хотела рассчитать своего кучера. «Я еще долго не буду выезжать по вечерам, – говорил господин де Понлеве, – и вы великолепно можете пользоваться моим кучером; к чему держать бездельника, для которого почти нет работы?» Сцена была почти такая же бурная, как та, которую он устроил дочери, когда решил поссорить ее с близкой приятельницей, госпожой де Константен.
– Это та умница, о забавных выходках которой нам третьего дня рассказывал господин де Ланфор?
– Она самая. Господин де Понлеве невероятно скуп и труслив: он опасался влияния решительного характера госпожи де Константен. Он собирается эмигрировать в случае падения Людовика-Филиппа и провозглашения республики. Он крайне нуждался во время первой эмиграции. Говорят, у него много земель, но мало наличных денег, и он очень рассчитывает на состояние дочери в том случае, если снова придется бежать за Рейн.
Этот приятный разговор между Люсьеном, Теодолиндой и ее подругой продолжался до тех пор, пока госпожа де Серпьер не сочла нужным как мать вмешаться в интимную беседу, на которую, впрочем, взирала не без удовольствия.
– О чем вы там разговариваете? – весело спросила она, подходя к ним. – Вид у вас очень оживленный.
– Мы говорили о госпоже де Шастеле, – ответила подруга мадемуазель Теодолинды.
Физиономия госпожи де Серпьер тотчас же совершенно изменилась и приняла самое суровое выражение.
– Похождения этой дамы, – сказала она, – совсем не должны быть предметом бесед молодых девушек; она привезла из Парижа взгляды на жизнь, весьма опасные для вашего будущего счастья и для вашего положения в свете. К сожалению, ее богатство и пустой блеск, которым оно ее окружает, могут ввести в заблуждение, как бы смягчая тяжесть ее проступков; вы меня очень обяжете, сударь, – сухо обратилась она к Люсьену, – если никогда не будете заговаривать с моими дочерьми о похождениях госпожи де Шастеле.
«Отвратительная женщина! – подумал Люсьен. – Мы тут развлекались, а она пришла и все испортила; стоило ли с таким терпением целый час выслушивать ее утомительные разглагольствования?»
Люсьен удалился с таким надменным и суровым видом, на какой только был способен; он вернулся домой и был весьма доволен, застав своего хозяина, славного господина Бонара, торговца зерном.
Постепенно, от скуки и меньше всего думая о любви, Люсьен стал себя вести как самый заурядный влюбленный и находил это очень забавным. В воскресенье утром он поставил одного из своих слуг на страже против входной двери особняка де Понлеве. Как только этот человек сообщил ему, что госпожа де Шастеле отправилась в маленькую местную церковь Религиозного просвещения, он поспешил туда.
Но церковь была настолько мала, лошади Люсьена, без которых он дал себе слово никогда не показываться на улице, производили столько шума на мостовой, а его мундир так бросался в глаза, что ему стало стыдно своей неделикатности.
Он не мог хорошо разглядеть госпожу де Шастеле, которая стояла в глубине довольно темного притвора. Ему показалось, что в ней много простоты. «Либо я сильно ошибаюсь, либо эта женщина очень мало думает о том, что ее окружает; к тому же ее осанка вполне соответствует самой искренней набожности».
В следующее воскресенье Люсьен отправился в ту же церковь пешком; но, несмотря на это, он чувствовал себя неловко, так как взоры молящихся то и дело устремлялись на него.
Трудно было иметь вид более изысканный, чем у госпожи де Шастеле; но Люсьен, ставший так, чтобы хорошо ее рассмотреть при выходе из церкви, заметил, что, когда она не опускала строго своих глаз, они поражали необычной красотой и помимо ее воли выдавали все ее чувства. «Эти глаза, – подумал он, – должны часто вызывать досаду у своей обладательницы; как бы она ни старалась, она не в состоянии лишить их выразительности».
В тот день в них можно было прочесть сосредоточенность и глубокую печаль. «Неужели еще до сих пор господин де Бюзан де Сисиль – причина этих грустных взоров?»
Вопрос, который он себе задал, отравил ему все удовольствие.
Глава четырнадцатая
«Я не предполагал, что гарнизонные романы связаны с такими неприятностями». Эта благоразумная, но вульгарная мысль придала немного серьезности Люсьену, и он впал в глубокую задумчивость.
«Ну что ж, легко ли это или нет, – решил он после долгого молчания, – но получить возможность дружески болтать с подобной женщиной было бы очаровательно». Однако выражение его физиономии совершенно не соответствовало слову «очаровательно».
«Я не могу не признаться самому себе, – продолжал он уже с большим хладнокровием, – что есть страшная разница между подполковником и простым корнетом и еще более ужасная – между аристократическим именем господина де Бюзана де Сисиля, сподвижника Карла Анжуйского, брата Людовика Святого, и этой мещанской фамилией Левен… С другой стороны, мои новые ливреи и английские лошади должны наполовину облагородить меня в глазах провинциалки… А может быть, – прибавил он со смехом, – и вполне облагородить…
Нет, – воскликнул он, яростно вскакивая с места, – низменные понятия не вяжутся с ее благородной внешностью… Она может разделять их только потому, что они свойственны ее касте. Они не смешны в ней, так как она усвоила их еще в шестилетнем возрасте вместе с катехизисом; это не понятия, а чувства. Провинциальная знать придает большое значение ливреям и блестящим экипажам.
Но к чему все эти ненужные тонкости? Надо признаться, что я очень смешон. Имею ли я право задумываться над интимными чертами ее характера? Я хотел бы провести несколько вечеров в салоне, где она бывает. Отец с вызовом предложил мне, чтобы я добился доступа в салоны Нанси, – я в них принят. Это было довольно трудно, но теперь настало уже для меня время чем-нибудь заняться в этих гостиных. Я умираю от скуки, а чрезмерная скука могла бы сделать меня невнимательным; этого мне никогда не простили бы здешние тщеславные дворянчики, даже лучшие из них.
Почему бы мне не стремиться иметь „цель в жизни“, как говорит мадемуазель Сильвиана, провести несколько вечеров в обществе молодой женщины? Вольно ж мне было думать о любви и осыпать себя упреками! Это времяпрепровождение не помешает мне быть человеком уважаемым и послужить отечеству, если представится случай.
К тому же, – прибавил он с меланхолической улыбкой, – эти „любезные“ разговоры скоро разочаруют меня в удовольствии, которое я предполагаю найти во встречах с нею. Чуть благороднее наружность, речь, соответствующая другому общественному положению, и это будет том второй мадемуазель Сильвианы Бершю. Она будет язвительна и набожна, как госпожа де Серпьер, или упоена своим дворянством и станет говорить мне о заслугах своих прадедов, как госпожа де Коммерси, которая, путая все даты и, что еще хуже, страшно долго рассказывала мне вчера о том, как один из ее предков, по имени Ангерран, участвовал в походе Франциска Первого против альбигойцев и стал овернским коннетаблем. Так оно и будет, но она красива; что же еще надо, чтобы скоротать час-другой? Слушая весь этот вздор, я буду в двух шагах от нее. Будет даже любопытно философски наблюдать за тем, как смешные и низкие мысли оказываются бессильны испортить такое лицо. Дело в том, что нет ничего смешнее учения Лафатера»[42].
Однако в голове Люсьена над всем остальным восторжествовала мысль, что было бы непростительным промахом не суметь проникнуть в салоны, которые посещает госпожа де Шастеле, или в ее собственную гостиную, если она нигде не бывает. «Это потребует кое-каких хлопот и будет то же, что взятие штурмом гостиных Нанси». Все эти философские рассуждения заставили отступить роковое слово «любовь», и Люсьен больше ни в чем не упрекал себя.
Он так часто издевался над жалким положением одного из своих кузенов, Эдгара! «Ставить свое собственное достоинство в зависимость от мнения женщины, которая себя уважает потому, что ее прадед, находясь в свите Франциска Первого, убивал альбигойцев! Это уже верх нелепости. В таком столкновении интересов мужчина более смешон, чем женщина».
Несмотря на все эти прекрасные рассуждения, господин де Бюзан де Сисиль занимал воображение нашего героя по меньшей мере столько же, сколько и госпожа де Шастеле. Он проявлял чудеса хитрости, окольными путями наводя разговор на тему о господине де Бюзане и оказанном ему приеме. Господин Готье, господин Бонар, их друзья и все второразрядное общество, как всегда склонное к преувеличениям, ничего не знали о господине де Бюзане, кроме того, что он принадлежал к высшей знати и был любовником госпожи де Шастеле. В гостиных госпожи де Коммерси и госпожи де Пюи-Лоранс были далеки от того, чтобы с такой определенностью говорить о подобных вещах. Когда Люсьен задавал вопрос о господине де Бюзане, казалось, все вспоминали, что он, Люсьен, из вражеского стана, и ни разу ему не удалось добиться ясного ответа. Он не мог толковать об этом со своей приятельницей, мадемуазель Теодолиндой; а между тем она была единственным существом, которое, по-видимому, не хотело обманывать его. Люсьен так и не узнал истины о господине де Бюзане. В действительности же это был добряк и храбрец, но человек весьма недалекий. По приезде в Нанси, введенный в заблуждение оказанным ему приемом, забыв о своей солидной комплекции, невыразительном взгляде и сорока годах, он влюбился в госпожу де Шастеле. Он постоянно надоедал ее отцу и ей своими посещениями, и госпоже де Шастеле никак не удавалось сделать эти визиты более редкими. Ее отец, господин де Понлеве, поставил себе целью поддерживать хорошие отношения со всеми военными в Нанси. Если откроется его довольно невинная переписка с Карлом X, кому будет приказано арестовать его? Кто поможет ему бежать? И если вдруг придет известие, что в Париже провозглашена республика, кто защитит его от здешней черни?
Но бедный Люсьен был далек от того, чтобы проникнуть во все это. Дю Пуарье всегда с удивительным искусством увертывался от его вопросов.
В высшем обществе ему без конца повторяли: «Этот штаб-офицер – потомок одного из ближайших соратников герцога Анжуйского, брата Людовика Святого, которому он помог завоевать Сицилию».
Немного больше он узнал от господина д’Антена, сказавшего ему однажды: «Вы очень хорошо сделали, сняв его квартиру; это одна из самых сносных в городе. Бедняга Бюзан был очень храбр, совершенно лишен воображения, но обладал превосходными манерами; он часто устраивал дамам очень милые завтраки в Бюрельвильерском лесу или в „Зеленом охотнике“, в четверти лье отсюда; и почти всякий день с наступлением полуночи он чувствовал себя веселым, так как был немного пьян».
Все время изыскивая способы встретиться в какой-нибудь гостиной с госпожой де Шастеле, Люсьен утратил желание блистать в глазах обитателей Нанси, которых он начал презирать, быть может, больше, чем следовало; теперь основным стимулом его поступков было желание занять мысли, если не душу этой красивой куклы. «У этого существа, должно быть, странные взгляды на жизнь! – думал он. – Молодая провинциалка, ультрароялистка, попавшая из монастыря Сердца Иисусова ко двору Карла Десятого и изгнанная из Парижа в июльские дни 1830 года». Такова и в самом деле была история госпожи де Шастеле.
В 1814 году, после первой Реставрации, маркиз де Понлеве пришел в отчаяние оттого, что он живет в Нанси и не находится при дворе.
«Я вижу, – говорил он, – как снова восстановилась черта, отделяющая нас от придворной знати. Мой кузен, носящий то же имя, что и я, так как он придворный, двадцати двух лет получит чин полковника и будет командовать полком, где я дай бог, чтоб дослужился до капитана в сорок».
В этом заключалась главная печаль господина де Понлеве, и он ни от кого этого не скрывал. Вскоре его посетило еще и второе горе. В 1816 году он выставил свою кандидатуру в палату депутатов и получил шесть голосов, считая свой собственный. Он уехал в Париж, заявив, что после такой обиды навсегда покидает провинцию, и взял с собою дочь, пяти- или шестилетнюю девочку. Чтобы приобрести в Париже какое-нибудь положение, он стал домогаться пэрства. Господин де Пюи-Лоранс, бывший тогда в силе при дворе, посоветовал ему отдать дочь на воспитание в монастырь Сердца Иисусова; господин де Понлеве последовал этому совету и почувствовал всю его важность. Он ударился в страшную набожность и достиг того, что в 1828 году выдал свою дочь замуж за генерал-майора, состоявшего при дворе Карла X. Брак этот находили очень выгодным. Господин де Шастеле имел состояние. Он казался старше своих лет, так как был совершенно лыс, но сохранил удивительную живость; манеры у него были изысканны до слащавости. Его придворные враги применяли к нему стих Буало о романах его времени:

