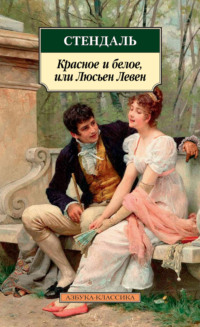
Красное и белое, или Люсьен Левен
8
Имеется в виду Июльская революция 1830 года, приведшая к свержению короля Карла X и возведению на престол Луи-Филиппа, герцога Орлеанского.
9
Пирр (319–272 до н. э.) – царь Эпира и Македонии, один из сильнейших противников Рима.
10
Луи Шарль Антуан Дезе (1768–1800) – французский генерал, участник Египетского похода Наполеона. Сен-Сир – имеется в виду французский генерал, военный министр Франции Лоран де Гувион, маркиз де Сен-Сир (1764–1830).
11
Это говорит республиканец.– Примеч. автора.
12
Антуан Гийом Дельмас (1768–1813) – французский генерал.
13
В октябре 1813 года французские войска при Ганау одержали победу над союзными австро-баварскими войсками.
14
В 1795 году на паперти церкви святого Рока собрались восставшие роялисты. Бонапарт подавил восстание, расстреляв толпу картечью.
15
Мишель Ней (1769–1815) – один из наиболее известных маршалов времен Наполеоновских войн. Газета «National» опубликовала хвалебный очерк о Нее после его расстрела в период второй Реставрации.
16
Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобан (1633–1707) – французский военный инженер, построивший множество укреплений на границах Франции.
17
Сражение при Монмирайле 11–12 февраля 1814 года увенчалось одной из последних побед Наполеона над союзными войсками.
18
Это говорят ультрароялисты. Кто мог бы взять под сомнение безукоризненную честность, которой руководствуются при заключении договоров на поставки? –Примеч. автора.
19
Жан-Батист Серафен, граф де Виллель (1773–1854) – французский государственный деятель эпохи Реставрации.
20
Франкони – семья знаменитых цирковых наездников, содержавшая в течение многих лет цирк в Париже.
21
Васисдас – окно в магазине, предназначенное для продаж.
22
Мститель(лат.).
23
Фелисите Робер де Ламенне (1782–1854) – французский богослов и писатель.
24
Мария Малибран (1808–1836) – испанская певица, легенда мирового оперного искусства.
25
Джудитта Паста (1797–1865) – итальянская певица.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов