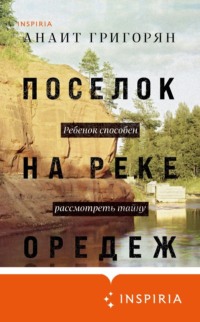
Поселок на реке Оредеж
– У вас веселее, – улыбнулась Татьяна. – У нас там один лес вокруг. А у вас речка.
– Да уж, у нас река так река, – согласилась Олеся Иванна. – Коварная только. Каждое лето кто-нибудь тонет. Когда не местные-то… не зная броду, не суйся в воду. Раньше говорили, в ней русалки водятся.
– Русалки? – удивилась Татьяна.
– Ну, утопленницы.
Татьяна чуть побледнела:
– Да я и не купаюсь. Так только…
Олеся Иванна собрала Татьянины покупки в большой пакет, выставила на прилавок.
– Вот. Что-нибудь еще?
Все-таки жалко ее. Если бы дети – она бы с ними возилась целыми днями, сидела бы как наседка с цыплятами. А баба крепкая, ей бы рожать и рожать. Сидит целыми днями дома, вышивает, слушает, как за окнами лес шумит, – в Заполье ей, гляди, скучно было. И на сторону сходить не посоветуешь – обидится.
За дверью тренькнул велосипедный звонок, раздался громкий смех. Комарова прислушалась. Нет, не Максим. Сердце вдруг застучало и полезло куда-то вверх, и она отвернулась, испугавшись, что Олеся Иванна или Татьяна что-нибудь заметят. Звонок снова тренькнул – к магазину подъехал кто-то еще. «Два гола им забили», – произнес знакомый голос, и снова засмеялись. Значит, вчера играли в футбол с семринскими и выиграли. Максим такими глупостями не занимается, это все Антон Босой и его дружки. Бабка Марья звала их лоботрясами и говорила, из таких никогда не вырастет ничего путного: раньше партия знала, что с такими делать, а теперь партии нет и никто не знает. Дверь распахнулась, в магазин сунулась конопатая физиономия с зажатой в зубах беломориной.
– Здрассь, Олесь Иванна!
– С папиросой нельзя, Тоша, докури на улице.
Антон ловко перекатил беломорину из одного угла рта в другой, нагло глянул в вырез кофты Олеси Иванны.
– Щас сделаем.
«Уехали, как обосранные», – послышалось из-за двери. Татьяна вздрогнула, полезла в сумку за деньгами. Это они нарочно, чтобы она слышала. Дверь снова открылась, зашел Антон и с ним двое: один был Стас, который жил очень далеко, на другом конце поселка, где-то возле биостанции, а второго Комарова не знала – он, наверное, был из Семрино. Губа у него была сильно разбита, и в углу рта черным запеклась кровь.
– Пачку «Беломора». – Антон вытащил из кармана две смятые трехрублевые бумажки, бросил на блюдечко, подмигнул Татьяне.
– Давно не виделись, тетя Таня.
Татьяна, потупившись, отсчитала деньги, положила на прилавок, взяла свой пакет.
– Так ведь ты в церковь не ходишь.
– В церковь же с папиросой нельзя.
Стас и незнакомый парень засмеялись. Татьяна залилась краской.
– Сумка-то у вас тяжелая? Помочь донести?
– Совсем не тяжелая. – Татьяна смущенно улыбнулась. – Спасибо, Антоша, я как-нибудь сама.
– Стас, помоги тете Тане.
Стас шагнул к Татьяне, забрал у нее пакет, она обернулась к Олесе Иванне и Комаровой, попрощалась и вышла в распахнутую Стасом дверь, – он был такой высокий, что едва не задевал головой притолоку, и потому сильно сутулился, а в футбольной команде был вратарем и стоял в воротах почти неподвижно, широко расставив длинные ноги, раскинув руки и по-бычьи наклонив голову.
– Какой ты у нас джентльмен, смотри-ка. – Олеся Иванна протянула Антону пачку «Беломора».
– Красивая баба Татьяна. Только дура.
– Она тебе хорошо в матери годится.
– В матери – это вы перегнули, Олесь Иванна.
Олеся Иванна ухмыльнулась. Антон вдруг перегнулся через прилавок, ухватил ее за плечи, притянул к себе и поцеловал прямо в губы. Семринский парень криво улыбнулся разбитым ртом.
– А вы, Олеся Иванна, и красивая, и умная.
– Зато ты дурак. – Олеся Иванна махнула рукой, едва не задев Антона по лицу. – Вот подожди, Петя вернется…
– Испугали ежа голой жопой. – Он отпустил ее, вытер рот тыльной стороной ладони, обернулся на Комарову. – Чего, Комарица?
– Ничего. Шел бы ты…
– А, вот ты, значит, как… – Антон лыбился, и видно было, что с левой стороны у него недостает двух передних зубов: одного совсем нет, а от другого торчит маленький треугольный осколок.
– Это вы в нашем штабе колючей проволоки набросали?
Комарова только теперь заметила на руках у Антона несколько длинных царапин – тонких, с рваными краями. Штаб у него и его гоп-компании был под железнодорожным мостом – отсюда километра три, быстро не сбегаешь.
Комарова отрицательно мотнула головой:
– Очень надо.
– Не ври, мелкая. Кроме вас некому. – Антон уже не улыбался, и глаза его, водянистые, с россыпью темных крапинок вокруг зрачков, смотрели зло.
– Тоша, отстань от девочки, – вступилась Олеся Иванна.
Антон дернул плечом, будто сгоняя муху, наклонился, уперся ладонями в прилавок:
– Кто тогда, если не вы?
Комарова опустила глаза и пробормотала себе под нос:
– Я тебе не мелкая, говна кусок.
Антон вздрогнул, сжал кулаки так, что костяшки пальцев стали белыми. Отец его тоже бьет, таскает за кудрявые, цвета лежалой соломы волосы. Антон кусает губы в кровь, но молчит. Он и когда дерется тоже молчит.
– Каринка с Дашкой вас у станции видели у моста. У моста вы что делали?
– Врут они всё. Слушай больше.
Антон ухмыльнулся:
– Врут, значит?
– Врут, – уверенно повторила Комарова.
– Значит, врут? А это вот что такое? – Антон запустил руку за пазуху, вытащил белый шерстяной платок, бросил на прилавок. – Ну?
Комарова уставилась на платок. Во рту было сухо, и казалось, что язык покрылся паутиной и прилип к нёбу. Мало Комарова молилась Николаю Чудотворцу и мало лупила Ленку по голым ногам хворостиной.
– Ну? Что молчишь, Комарица?
– Ну платок. И что? – наконец выговорила Комарова.
– Скажешь, не твоей сестры?
– Тоша, ну перестань, ну нахулиганили девочки по глупости… – еще раз попыталась вступиться за Комарову Олеся Иванна.
Антон снова дернул плечом и не ответил. Семринский парень смотрел на Комарову с любопытством и как будто с сочувствием, или так только казалось из-за его разбитой губы. На улице лаяли собаки, на станции свистнула электричка, прошла без остановки – на Великие Луки или на Лугу.
– Ну что? – Антон поднял платок двумя пальцами, потряс у Комаровой перед носом. На платке были нарисованы большие розовые и синие цветы. Уголок у него был надорван – значит, зацепился за проволоку, а Ленка, дура, не заметила. Вот дура… Антон бросил платок, сжал костистый кулак. При Олесе Иванне драться не полезет. Комарова взяла негнущимися пальцами платок с прилавка.
– Это мой. Ленка вчера весь день на хозяйстве была, я одна все…
– Что, думала, не узнаю?
– Думала, не узнаешь, – тихо ответила Комарова.
Комаровых мальчишки никогда особенно не трогали – разве что по мелочи, потому что те были местные. Городских они мучили нещадно: парней просто били, девчонкам бросали в волосы репьи, задирали юбки, не давали прохода, и многие на следующий год не приезжали снимать в поселке дачу. Комарова сделала шаг назад, и в спину ей уперлись полки с продуктами. Он не отстанет теперь. Если сейчас ничего не сделает – сделает потом. Однажды они поймали Светку и затащили в пещеры – за железной дорогой студенты с биостанции копали берег, искали какие-то прошлогодние ракушки. Светка, так за все годы и не научившаяся плавать, просидела там целую ночь, боясь войти в воду, продрогла и потом до конца лета ходила простуженная, и Комаровы дразнили ее сопливой.
– Это ты зря думала.
Дверь скрипнула, и Антон обернулся.
– Добрый день, Олеся Ивановна.
Максим! Комарова привстала на цыпочки и помахала ему рукой. Максим пожал Босому руку, кивнул Комаровой. Максим был из местных, но держался всегда особняком; большинство его сверстников уехали в город – кто учиться, кто работать, а он остался в поселке, учиться не пошел и устроился путевым обходчиком на станцию. Он был высокий, широкоплечий, красивый и в отличие от остальных почти не пил, и странно было, что он не уехал и не нашел себе другого занятия. Женщины говорили про Максима, что он всем хорош, только от жизни как будто ничего не хочет, а когда его спрашивали, почему так, он либо отмалчивался, либо отшучивался.
– Дай пачку «Беломора».
Комарова прежде Олеси Иванны бросилась к полке с сигаретами и папиросами, быстро ухватила из стопки бело-синюю квадратную пачку и протянула Максиму. Он взял, открыл, достал одну папиросу, помял патрон и сунул в рот, не закуривая.
– Охота вам всем этой паклей травиться, – усмехнулась Олеся Иванна.
Максим улыбнулся:
– Умная ты женщина, Олеся, а простых вещей не понимаешь.
Комарова засмеялась было, но встретила злой взгляд Антона и притихла.
– Ладно, Комарица, потом с тобой поговорим. Бывай, Макс.
Антон хлопнул по протянутой руке Максима, подмигнул Олесе Иванне. Она задумчиво накручивала на палец завитой локон. Семринский парень боком протиснулся в закрывающуюся дверь. На станции снова засвистела электричка, глухо застучала по рельсам.
– Вон как стучит. Летом так не стучали.
– Это почему?
Максим поглядел на Комарову, ответил не сразу.
– В тепле металл расширяется, стыки делаются плотнее. – Он вынул изо рта папиросу, помял ее еще пальцами. – Батю твоего сегодня видел.
– Пьяный был, что ли?
– Ну…
Максим постоял немного, как бы раздумывая, не нужно ли купить чего еще, сунул руки в карманы джинсов. Комарова отвернулась, поправляла что-то на полках, прикрепила кнопкой упавший на пол ценник.
– Там на станцию товарняк пришел, вагонов триста…
Комарова быстро обернулась:
– Да ладно!
– Ну да. Приходи завтра утром, посмотришь.
– А не уйдет до завтрего?
– Куда он денется…
Максим глянул на Олесю Иванну: та сидела на своем стуле, покачивала ногой и усмехалась непонятно чему – вот за что эта баба всем нравится? На памяти Максима два женатых мужика к ней ходили – весь поселок знал, и жена одного из них прибежала в магазин и кричала, что Олеська – змея и проститутка, а потом схватила с прилавка пакет с сахаром и бросила ей в морду.
– Завтра утром приду, – сказала Комарова и тоже обернулась на Олесю Иванну.
– Пойди, Катя, пойди, посмотри на поезд, а сюда приходи к двенадцати.
После обеда покупателей стало больше, а к закрытию – магазин закрывался в пять тридцать – выстроилась небольшая очередь, так что Комарова, торопясь помочь Олесе Иванне, чуть не опрокинула на себя лоток с хлебом. Отпустив последнего покупателя – это оказался незнакомый Комаровой парень, должно быть, тоже из семринских или из сусанинских, приехавших вчера смотреть футбольный матч, – Олеся Иванна закрыла дверь на большую, покрытую рыжими пятнами щеколду.
– Ну что, устала, Катя?
– Да не, ничё так. – Комарова подняла руки, потянулась. В сгибах локтей заныло.
– Ты пойди, посмотри завтра на поезд-то. А сюда приходи к двенадцати, я тут без тебя справлюсь. – Олеся Иванна подмигнула, взмахнув густо накрашенными ресницами.
Комарова сунула руку в карман – там было пусто: с утра, боясь опоздать, она впопыхах забыла взять с собой самокрутку, оставила на столе в комнате. Ленка, значит, скурила…
– Олеся Иванна…
– Чего тебе еще?
– Можно я одну беломорину возьму?
– Куда тебе?
В магазине всегда имелась открытая пачка «Беломора» или «Примы» – специально, чтобы продавать папиросы в розницу тем, у кого туго с деньгами. Олеся Иванна, правда, в этом случае проявляла щедрость и, бывало, просто угощала папироской нравившихся ей мужчин – они это знали и имели лишний повод заглянуть в магазин. Комарова не ответила, стояла, переминаясь с ноги на ногу. Олеся Иванна вздохнула, взяла открытую пачку с полки, протянула ей.
– Ну, бери… Да бери, бери, но двадцать копеек я с тебя вычту. И платок свой возьми. Накинь на плечи, на улице уже холодно.
Комарова вышла через заднюю дверь, вспомнила, что забыла попросить спички, покрутила папиросу в пальцах и сунула в карман. Солнце стояло еще высоко, но светило тускло, по-осеннему, и правда было немного зябко. Комарова поежилась и плотнее укуталась в платок. Ну, Ленка… всегда же по кустам ползает… спешила, значит, бежала дорогой, и бесстыжие сестры ее видели и донесли Босому… вымазать бы им все окна свиным навозом. Бабка говорила, так раньше делали, двери и окна свиным навозом мазали, чтобы все знали: здесь живет бесстыжий и дрянной человек. Комарова перешла центральную дорогу и побрела тропинкой вдоль обочины. Кто-то окликнул ее – она не остановилась и ускорила шаг.
– Да постой же ты, Комарица!
Комарова побежала.
– Да стой ты уже!
Стас догнал быстро, забежал вперед и встал, раскинув в стороны длинные руки и наклонив голову, как бы собираясь бодаться. В кусты, потом через канаву, на боковую улицу… она сделала маленький шаг вбок. Стас дернулся, будто хотел ее схватить.
– Да стой ты. Я тебе ничего не сделаю.
– Чего тебе?
– Да ничего.
– Тогда чего бежал?
Он молчал, смотрел исподлобья, жевал длинный стебелек тимофеевки: из всех парней Стас единственный не курил. Продолговатый колосок мелькал в воздухе справа налево, вверх-вниз…
– Быстро бегаешь для девчонки.
– И чего?
– Что ты заладила: чего да чего…
Это он небось от Татьяны только возвращается: Сергий живет на другом берегу, да и Татьяна сразу никогда не отпустит, сначала чаем напоит. Добрая она, Татьяна.
– Слушай, Комарица…
– Ну, чего тебе?
– Да что ты опять заладила? – Он выплюнул тимофеевку, снова молча уставился.
– Ты руки-то опусти, что ты стоишь как дурак?
Стас послушно опустил руки, сунул большие пальцы под потертый кожаный ремень.
– Слушай, Комарица… Босой вам обеим головы поотрывает.
Те, кто с Антоном водились, Босым его обыкновенно не называли, и сам он это прозвище сильно не любил, потому что получил его, когда однажды отец погнал его за водкой в одних трусах и футболке, а стоял уже ноябрь, и деревья тянули к сыпавшему дождем небу черные ветви. Кто первым обозвал Антона Босым, давно забылось, но прозвище прилепилось намертво.
– Знаю. И чего теперь?
– Ничего ты не знаешь, Комарица.
– Так скажи!
Стас поджал губы, опустил голову еще ниже.
– Ну? Скажешь или нет?..
– Слушай, Комарица…
– Никакая я тебе не Комарица. Екатерина я. Раба Божия Екатерина. Понял?
– Понял, – нехотя ответил Стас, не поднимая головы.
Комарова шагнула к нему:
– Пройти дай.
Он отступил, пропуская ее. Комарова свернула на узкую улочку, спускавшуюся к реке, и вскоре скрылась за частоколом заборов и мельтешением по-вечернему густых теней листвы. Стас постоял еще немного, повернулся и зашагал к станции. Вот ведь упрямая девка – слова не дала сказать. Он сорвал росшую на обочине травинку и зажал между зубами. Раба Божия Екатерина! Было досадно. Он-то с ней по-человечески…
От реки тянуло прохладой и пахло тиной. Комарова осторожно спустилась по деревянным ступенькам к длинному мостку – вода стояла высоко, и мосток как бы лежал на ней. Комарова уселась на шершавые доски, скрестив ноги. Река была темной и казалась густой, как кисель, на середине ее медленно кружилось несколько небольших воронок. В этом месте, говорили, был омут, и даже местные не решались здесь купаться: как-то раз Комарова, полоща белье, поскользнулась и полетела в воду, и течение, неожиданно сильное, потащило ее на глубину. Противоположный берег, сложенный из полос красной глины и песка, был весь изрыт ласточками: то из одного, то из другого отверстия то и дело высовывались черные птичьи головки, что-то пищали и тотчас юркали обратно.
– Чё, сидишь тут?
Она обернулась: Ленка продиралась откуда-то сбоку, из приречных зарослей. Волосы ее были растрепаны и торчали прядями в разные стороны, в них застряли сухие травинки и листики.
– Чё, сидишь? – повторила Ленка и шмыгнула носом.
– Сижу.
– А я думаю: ты – не ты?
– Кому еще?
Прошлым летом они видели здесь русалку: голая девка, по пояс в воде, локтями оперлась на мостки и делает бусы из кувшинок, совсем как обыкновенные девчонки (сколько раз Комарова сама делала такие же Ленке), – надрывает ногтем круглый стебель, надламывает его так, чтобы осталась только перемычка тонкой плотной кожицы, чуть оттягивает кусочек стебля вниз – кожица легко отстает от него, – потом снова надламывает стебель и снова тянет, уже с противоположной стороны, так что выходят две аккуратные нити зеленых бусин. Сделала, накинула на шею, погляделась в воду, засмеялась и ушла в глубину.
– Я тебе тут вот…
Ленка пошарила в кармане, вытащила самокрутку и спичечный коробок, протянула Комаровой. Та стащила с плеч платок, скомкала в кулаке, ткнула Ленке в физиономию:
– Это что такое?!
– Ой, это же платок мой. Где нашла?
Комарова выхватила у Ленки самокрутку, зачиркала спичкой. Кувшинки давно отцвели и погрузили в воду кубышки с семенами – на поверхности покачивались только круглые листья.
– Ну Кать, ты чё?
– Я тебе сейчас за твое «чё» по лбу дам.
– Да ну чё?
Комарова размахнулась и влепила Ленке затрещину. Ленка отшатнулась, сжалась, закрылась руками.
– Ну?! Знаешь, что нам теперь за это будет?
– Да чего… – Ленка шмыгнула носом, убрала от лица руки. – Чего они нам сделают… – Она осторожно подняла упавший платок, накинула на плечи и завязала узелком на груди.
Комарова вздохнула и отвернулась. Река, ко всему равнодушная, плескала и булькала что-то свое, пенилась, кружила какие-то палочки, щепочки, листочки, несла их в Лугу, а из Луги – в залив. И Комарову она тогда подхватила так же легко и так бы и несла, кружа и играя, если бы платье не намокло и не потянуло ко дну. Комарова бросила в воду недокуренную самокрутку, вода завертела ее и понесла прочь.
– Ленка…
– Чё… чего такое?
– Ты правда хочешь в город уехать?
– А то…
– Кому ты там нужна, в этом городе?
– Выйду за городского и уеду.
Комарова помолчала, потом сняла туфли и носки, уселась на край мостка и опустила ноги в воду – они тут же онемели по самые колени. Комарова попробовала пошевелить пальцами и не поняла, получилось у нее или нет.
– За городского ты выйдешь… у тебя и трусов-то приличных нет.
– Будут. – Ленка шмыгнула носом. – Ты не простудись, чё ты села-то…
Комарова подтянулась на руках, вытащила ноги из воды – зябкий вечерний воздух вдруг показался горячим, и она быстро натянула носки и надела туфли.
– Опять ты со своим «чё».
– Ну чего тогда… – поправилась Ленка.
– Дура ты все-таки.
– Ну чё… какая есть.
Ленкины слова вдруг показались смешными, и Комарова рассмеялась. Ленка подхватила, и они смеялись долго, хватаясь друг за друга руками, потом переставали и снова начинали смеяться, пока дыхание не стало сбивчивым и прерывистым, как после долгого бега.
На обратном пути сделали большой крюк, дошли до пожарки – старой, давно разрушенной пожарной части, от которой остался только фундамент, две стены и печная труба, и накопали топинамбура; топинамбур уже отцветал, но кое-где покачивались еще на тонких стеблях золотистые цветки с длинными лепестками. Клубни сразу съели, тщательно обтерев подолом Ленкиного платья – они были холодные, хрусткие и чуть сладковатые. Ленка присела на корточки, поковырялась в земле, вытащила еще несколько маленьких клубней.
– Оставь, куда их…
– Пригодятся. Мелким отдам.
– Оставь… весной прорастут.
Ленка с сожалением поглядела на клубни, покатала на ладони, потом закопала обратно и похлопала по земле ладонями.
Домой вернулись, когда уже темнело. Батя поджидал их на крыльце: сидел верхом на перилах, свесив ноги по обе стороны, – Ленка тоже так часто сидела. Перед ним была полупустая бутылка пива; увидев Комаровых, он отхлебнул из бутылки, слез с перил, неуклюже перекинув ноги на одну сторону, встал, пошатываясь, ухватился за дверную ручку. Он был высокий и в молодости красивый, и даже теперь волосы его оставались густыми и в них не было заметно седины, но лицо было испитое и все как будто состояло из морщин и красноватых припухлостей. Ленка попятилась, спряталась за спину сестры.
– Прибьет, – шепнула Ленка. – Я же деньги-то…
Батя начал осторожно спускаться с крыльца, хватаясь за перила обеими руками и боком переставляя ноги. Ленка схватила Комарову за рукав, потянула. Комарова сделала шаг назад.
– Погоди…
– Прибьет, – еще тише повторила Ленка и потянула сильнее.
– Да погоди ты…
Комарова стояла и пялилась на батю в каком-то оцепенении. Перед глазами снова появилось красное пятно на ноге Олеси Иванны, потом пропало. Слова Ленки слышались как будто через плотный туман.
– Ка-ать!
Комарова встряхнула головой, чтобы разогнать туман, повернулась, схватилась за щеколду калитки, дернула ее не в ту сторону, и калитка закрылась. Ленка мешала, тормошила и вдруг куда-то пропала: батя, ухватив ее одной рукой за тонкую шею, другой за плечо, оттащил в сторону и ударил головой о заборный столб. Комарова рванула щеколду, та шершаво проехалась по пальцам, калитка заскрипела и от пинка распахнулась настежь.
– Пусти! Батя, пусти, больно! – верещала Ленка, пытаясь вывернуться.
Половина лица у нее была залита кровью, и широко раскрытые глаза в сумерках казались белыми. Лорд выскочил из конуры и залаял, подпрыгивая и звеня цепью. Батя рванул Ленку за плечо, и Комаровой показалось, что Ленкины ноги на какую-то секунду оторвались от земли, схватил за растрепанные волосы, повернул и еще раз ударил головой о забор. Ленка заскулила. Комарова бросилась к бате, изо всех сил заколотила его руками по спине:
– Пусти ее, убьешь, пусти, сволочь! Убьешь!
Он покачнулся, навалился на Ленку, прижимая ее к забору, но уже отпустил, и Комарова, схватив Ленку за руки, потянула ее на себя. Батя попытался пихнуть Комарову локтем в живот, но не попал: она увернулась, побежала к калитке, таща за собой вдруг ставшую ужасно тяжелой Ленку. Трава сухо шелестела под ногами. Комарова обернулась: батя за ними не гнался и сидел неподвижно, привалившись спиной к забору.
На центральной дороге было пусто, но Комаровы все равно спустились на тропинку и пошли вдоль заборов, за которыми было уже тихо, и только иногда, услышав их шаги, тявкала какая-нибудь собака, или кошка, сидевшая неподвижно на заборе, спрыгивала в кусты. Ленка шла, пошатываясь, сложив руки на груди и низко опустив голову, так что слипшиеся волосы почти закрывали лицо, и время от времени тихонько всхлипывала.
– Молчи, – шикнула на нее Комарова, – молчи.
Они свернули на узкую дорожку, обошли пригорок, на котором стояла церковь; в темноте ее было почти не разглядеть, только черный силуэт с крестом стоял неподвижно, как будто нарисованный на небе черной краской. За церковью дорожка полого спускалась к реке, Комарова взяла Ленку за руку, и они пошли осторожно, отодвигая лезущие в лицо метелки камыша. В камышах непрестанно что-то шуршало, тонким голосом вдруг закричала потревоженная птица и невидимо порхнула из зарослей. Под ногами было скользко: этим путем к воде часто спускались коровы, возвращавшиеся с выпаса, и взрыхляли влажную землю широкими копытами. Дойдя до берега, Комаровы присели на корточки, и Катя, зачерпнув горстью холодной, пахнущей тиной воды, плеснула Ленке в лицо.
– Холодно! – взвизгнула Ленка.
– Терпи… куда ты пойдешь с такой рожей?
– Холодно, – повторила Ленка и захныкала.
– Ну, не реви, до свадьбы заживет.
Ленка сжала губы, еще раз сдержанно всхлипнула, вздрогнув всем телом, и вдруг громко и протяжно завыла. Комарова обхватила ее за плечи, крепко прижала к себе. Ленка ткнулась мокрым лицом ей в шею, и за шиворот Комаровой потекли ее теплые слезы. Она встала, потянув Ленку за собой, и они постояли недолго обнявшись, а потом медленно побрели обратно, выбираясь из камышей.
К Сергию идти было далеко: нужно было пройти еще немного в сторону станции, перейти по деревянному мосту на высокий берег реки и там еще два километра – слава богу, прямой дорогой, потому что и при свете дня Комарова не была бы уверена, что не заблудится в той части поселка. Ленка наконец взяла себя в руки и шла молча, только слышно было, как в туфлях у нее при каждом шаге негромко хлюпает.
– Ленка…
– Чё?
– Болит у тебя?
– Да так…
Дошли они, когда темнота уже стала плотной, хоть режь ее ножом, небо затянули тучи, и снова начал накрапывать мелкий дождь. Комарова дернула ручку калитки, с другой стороны зазвенела цепочка, и глухо, видимо, сквозь сон, гавкнула собака.
– Точно здесь?
Как-то раз, когда жива была еще бабка Марья, Комарова загулялась допоздна и пришла домой затемно – бабка стояла на ступенях крыльца, сжимая в руке несколько прутьев, выломанных из старого веника, и, когда Комарова поднималась на крыльцо, изо всей силы отстегала ее по ногам. Потом, когда Комарова уже лежала в кровати, бабка тихо вошла в комнату, присела рядом и положила ей на лоб жесткую, уже чуть дрожавшую ладонь – незадолго перед смертью у нее отчего-то сильно дрожали руки, – и Комарова тогда натянула на голову одеяло, а бабка продолжала гладить ее через одеяло, повторяя: «Ну, прости меня, Катя, прости меня, дуру старую».

