– Туда, – машет рукой полковник. – В сторону паровоза.
Бородатые и одноглазые они уходят.
– А что, собственно, случилось? – спрашивает полковник Хопкинс.
– Злодейски умерщвлен доблестный Карна, – сообщает бородач, придерживая дверь тамбура. – Он приехал навестить своего брата принца Арджуну, с которым много лет был в ссоре, и погиб от руки коварного убийцы.
– Печально-печально, – бормочет сэр Хопкинс. – Знаете что, дружище, я, пожалуй, пойду, засвидетельствую принцу Арджуне свои соболезнования. Какое ужасное злодеяние! Нет, ну, вы, только подумайте…
Уходит.
Возвращаясь в наше купе, я думаю об отце. Я представляю, как он идет по плацкартному вагону мимо качающихся и скрипящих керосиновых ламп, перешагивая через спящих на полу туземцев и щелкая компостером на ходу. Я вижу ухмылку, на его костистом плохо побритом лице. Вижу, как он заходит в тамбур и отпирает своим специальным железнодорожным ключом дверь вагона, и, отперев, распахивает ее в темноту. Поезд идет через ночь, на покатой, сложенной из кромешного мрака спине холма мигают дымные огни какой-то деревеньки. Отец садится на порожек, беспечно свесив ноги в отлетающую прочь пустоту. Из кармана форменной курточки он ловко достает фляжку и, свинтив крышку, вливает в себя половину. Он пьет, запрокинув голову, фуражка слетает с затылка и падает на пол у него за спиной. Отец проводит ладонью по своим жестким, как проволока, рыжим с проседью волосам и смотрит на россыпь далеких огней на темном холме. Он молча и бездумно глядит в бескрайнюю ночь Индии. В два больших глотка отец добивает фляжку и прячет ее в карман форменной куртки. Протянув руку за спину, он находит банджо, пристраивает на коленях, но не играет. Линия железной дороги идет на изгиб, и теперь в отворенную дверь вагона ему видны освещенные окна в голове состава. Ветер ерошит волосы Кимбола О’ Хары, дым из трубы паровоза, угольная крошка и сажа заставляют слезится его глаза. Вдали загорается звезда, идущего навстречу состава. Машинист дает длинный гудок. Где-то в океане джунглей звучит ответный глас бешеного слона. Отец бьет по струнам банджо и кричит. Встречный отвечает протяжным гудком, в джунглях отзывается слон, Кимбол О’ Хара опять бьет по струнам и кричит. Их голоса сливаются. Мимо с грохотом пролетает встречный, похожий на огненную змею. Мелькают освещенные окошки вагонов. Движением воздуха отца едва не сбрасывает со ступенек. Он с хохотом хватается за поручень, придерживая на коленях банджо. И тут меня кто-то окликает…
– Угостите, даму сигареткой, – говорит госпожа Блаватская.
Она стоит в тамбуре у окна, положив локоток на решетку. Меня слепит свет низкого вечернего солнца. Я подхожу ближе, смотрю в ее выпуклые, словно фарфоровые шары и невыносимо голубые глаза. В глазах госпожи Блаватской нет и тени мысли, и нельзя упасть на их дно. Внешний мир скользит по их окоёму, загибается по краям далекий написанной акварелью горизонт, вбегают в застывшее облако закатной пыли тонконогие и длинношеие силуэты брачующихся жирафов, чтобы пропасть там навсегда.
Блаватская щелкает пальцами возле моего носа.
– Эй, Ким, дорогуша, ну, что же вы? Проснитесь!
Я вижу зажигалку в ее руке.
– Я не курю, – глупо отвечаю я. – Простите, совсем позабыл.
– Какой вы право, смешной, – говорит госпожа Блаватская хриплым голоском.
Вздохнув, она находит за решеткой на окне окурок, пристраивает его в свой длинный костяной мундштук, щелкает зажигалкой и затягивается.
– Оседлай Птицу Жизни, если хочешь познать. Отдай свою жизнь, если хочешь жить, – говорит госпожа Блаватская.
Запустив свои тонкие пальцы в мою всклокоченную и потную шевелюру, она жадно с языком и дымом целует меня в рот.
Мне снится сон, который я видел когда-то раньше, очень давно, в детстве. Мне снится, будто я болен, и что у меня сильный жар. Я лежу в комнате на кровати, окна завешены шторами. На шторах пятна солнечного света и тени от ветвей, стоящих под окнами деревьев. По стенам прыгает проказливая обезьянка и сбрасывает на пол шторы. Колечки слетают со штанг. Нагретые солнцем полотнища штор, шурша, соскальзывают на пол. На окнах за шторами висят другие шторы, а за теми еще одни, а за ними еще. В комнате жарко. Я должен все убрать за обезьянкой, повесить шторы назад на штанги, но я не успеваю. А обезьянка без устали скачет с окна на окно. Колечки летят на пол… Это никогда не кончится. Комната уже погребена под ворохом горячих шуршащих штор. Я задыхаюсь. Приходит ужас.
Я просыпаюсь. Стук колес. Синяя тьма. Относительная ночная прохлада. Откидываю одеяло, сажусь. Нахожу бутылку с минералкой на столике. Жадно и долго пью. Снова валюсь на полку. Подушка вся мокрая от пота. Лежу, прикрыв ладонью глаза. Я видел этот сон раньше, давно-давно, когда ходил в школу. Я лежал больной посреди лета. Со мной случилось что-то плохое… Я никак не могу ухватить воспоминание за хвостик. Долго лежу без сна, а когда начинаю понемногу соскальзывать в забытье, вспоминаю все разом.
Школа была адом. Я вспоминаю каждый проклятый день этой прекрасной поры. Я словно заново проживаю их, эти деньки. Я плачу, кусаю подушку. Я ничего не могу с собой поделать. Встаю, утираюсь наволочкой и босой в пижаме, размахивая своим огромным потным пузом, выбегаю из купе. Я запираюсь в сортире. Чтобы не скулить во весь голос кусаю себя за руку через рукав пижамы. Несколько раз я сильно с размаху бьюсь затылком о стенку. Немного помогает. Спустя какое-то время в дверь стучат.
– Что с вами, месье Ким? Вы живы?
Узнаю голос проводника-метиса. Сморкаюсь в туалетную бумагу.
– Мне уже лучше, спасибо. Просто желудочное недомогание.
Проводник уходит. А я остаюсь в одиночестве, в своем аду.
Я самый толстый в нашем классе. Я самый неуклюжий. У меня нет друзей. А те, другие мальчишки, они шустры и ловки. Они хохочут, орут и визжат. И все время скачут, как козлы. И норовят меня ухватить, ущипнуть, пихнут, опрокинуть и уронить. Вырвать у меня ранец и высыпать из него все барахло на убитую землю школьного двора и расфутболить по окрестностям, или налить мне какой-нибудь дряни за шиворот, или поджечь мой пиджачок… Я держусь в стороне, я стараюсь отойти подальше, спрятаться, укрыться в тени. Но когда моим одноклассникам надоедают их идиотские, шумливые и потные забавы они принимаются за меня. Когда им становится скучно, они непременно меня находят. Я для них вроде жука, которого можно перевернуть на спину, оторвать лапки или посадить в банку с мочой… Для этих гаденышей нет ничего страшнее скуки. От скуки они становятся злыми и жестокими. Они могут измываться надо мной часами. Изо дня в день… Раньше была игра в Царя Пушки. Пушка Зам-Заме стояла неподалеку от школы на кирпичной платформе против старого Аджаиб-Гхара, Дома Чудес, как туземцы называют Лахорский музей. Игра не очень сложная. Все кучей лезут на пушку, пинаясь и кусая, друг дружку. Выигрывает тот, кто остается сидеть верхом на Зам-Заме в гордом одиночестве. Я всегда старался держаться от таких забав, как можно дальше. Потому что играючи там можно не на штуку покалечиться. Потом мои одноклассники немного изменили правила игры, и держаться в стороне у меня уже никак не получалось. Называлась эта игра теперь тоже по-другому. Я думаю, она назвалась так – Сбросим С Зам-Заме Толстого Борова. То есть меня. Играют в эту игру примерно так. Сперва Толстяка Плаксу Кима с хохотом и улюлюканьем затаскивают на пушку, а после с этой пушки сбрасывают. Потом снова затаскивают и снова сбрасывают. И так до тех пор, пока играющим не надоедает. Стоит сказать, что за годы отрочества я достаточно хорошо изучил эту легендарную пушку и кирпичную площадку, на которой она была установлена… Каждый день готовил мне новые мучения. И как скверно было просыпаться по утрам! Обычно я начинал реветь загодя, еще не выходя из дома, за завтраком. А одна дорога до школы чего стоила. С каждым шагом мои поджилки тряслись все сильнее, и солнечный свет притухал… С чего все пошло? Сперва, наверное, были какие-то отдельные злые шутки, пинки, плевки и так далее, но с годами это превратилось в одно сплошное издевательство. Я не мог ничего изменить. Я даже поговорить ни с кем из своих одноклассников уже не мог. Вам же не придет в голову разговаривать с мишенью в стрелковом тире? Я превратился во что-то вроде животного, с бледными болтающимися щеками, с оттопыренной нижней губой и вечно красными зареванными глазами… Среди моих мучителей был один самый изобретательный приставучий и жестокий. Этому было скучно всегда. Чхот-Лал, маленькая чернявая бестия в вышитой золотом шапочке. Сын смотрителя Лахорского музея. В этого мальчишку, не иначе как вселился бес. Он не мог и минуту усидеть на месте, не двигаясь. Это он стал моим кошмаром, моим личным палачом. В ту затяжную индийскую весну Чхот-Лал уже не давал мне прохода. Я не думаю, что он испытывал ко мне неприязнь или ненависть. Скорее всего, моим мучителем двигало любопытство и конечно, неизбывная скука. Несколько раз Чхот-Лал доводил меня до истерики, когда я, не видя мира через завесу слез, несся, визжа как иерихонская труба, по школьному двору, а после падал со всего маха и проезжал еще некоторое значительное расстояние, коля и обдирая о мелкие камешки свой нежный и белый, как у акулы живот. Пару раз со мной происходит что-то более страшное. Я, наверное, теряю сознание от отчаяния и бессильной злобы. На меня падает белый свет и стирает очертания мира. Как-то раз после такого приступа я прихожу в себя, лежа возле школьной ограды, весь в холодном и липком поту. Меня бьет озноб… И вот, однажды, той долгой затянувшейся весной Чхот-Лал выдумал для меня новое редкостное унижение. Я думаю, ему было интересно узнать, до какой черты можно дойти. Я думаю, это было связанно с гормональным взрывом, с началом полового созревания у мальчиков. Все происходит в школьном сортире, после уроков, в неприметный будний день. Чхот-Лал щуплый и маленький, его макушка где-то вровень с моим подбородком, он стоит спиной к свету, льющемуся их мутных окон. Шитая золотом шапочка, сдвинута на затылок. Его лицо в тени, и я со страхом то ли вижу, то ли угадываю хорошо знакомую мне неуловимую полуулыбку на его губах. Неожиданно и сильно Чхот-Лал бьет меня ногой в промежность… Я лежу на полу возле кабинки. Крупный план: черные и белые плитки, как на шахматной доске, грязь, лужицы, окурки… Кто-то из его дружков сидит у меня на шее… Темные потеки по краю унитаза. Несколько рук давят мне на затылок. Упираюсь. В кровь разбиваю губы… Визгливый хохот… и окунают лицом… Потом откуда-то они принесли эту палку… А сейчас, мы отрежем тебе яйца, обещает мне Чхот-Лал. В его руках толстая рыболовная леска… Вкус крови на разбитых губах. Я, кажется, обмочился от страха… С меня сдирают штаны. Материя трещит и рвется. Несколько мальчишек сидят на мне верхом, как на слоне. Стыд. Боль. Ужас. Я кричу. Я кричу. Я кри… Кто-то заботливо пихает мне в рот какую-то дрянь. Меня слепит тьма… Еще одно окунание в унитаз… Только посмей куснуть, я тебя все зубы выбью, обещает мне Чхот-Лал, улыбаясь своей едва заметной улыбкой и ззастёгивая школьные брючки… Был момент, когда я подумал, что они, наверное, меня убьют. А что им было теперь со мной делать?… Меня долго тошнит. Посмотри на себя, говорит мне Чхот-Лал. Он стоит против мутных окон. Шитая золотом шапочка на его голове тускло мерцает. Ким, дружище, ты похож на свинью! Не хочу с тобой дружить… И он уходит. Они все уходят… Вечность спустя я поднимаюсь с кафельного пола. Выхожу из сортира, путаясь в рваных болтающихся на щиколотках штанах. Школьный коридор пуст и безлюден. Крестовую раму в дальнем окне сжигает золотистый солнечный свет. Там, на улице чужое лето. Через пелену отчаяния, стыда и боли я слышу гулкую тишину школьного здания и приглушенные оконными рамами голоса человеческих существ снаружи. И еще я замечаю какой-то повторяющийся и неразборчивый звук. Я прислушиваюсь. Я слышу, как кто-то поскуливает и монотонно повторяет через этот скулеж одно единственное слово. Убью… Убью… Убью… Потом я понимаю, что это я сам, что это мой голос. Ковыляю, поддерживая рукой порванные штаны. Никого, не встретив спускаюсь по лестнице, толкаю дверь на крыльцо, выхожу в свет. Прохожу под прожектором солнца через плац школьного двора. Я отделен от мира невидимой стеной прочнее камня… Выхожу со школьного двора. Спускаюсь к акведуку. Смываю с лица кровь и сопли. Нахожу какую-то веревочку и подвязываю ей порванные штаны. Иду домой.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:



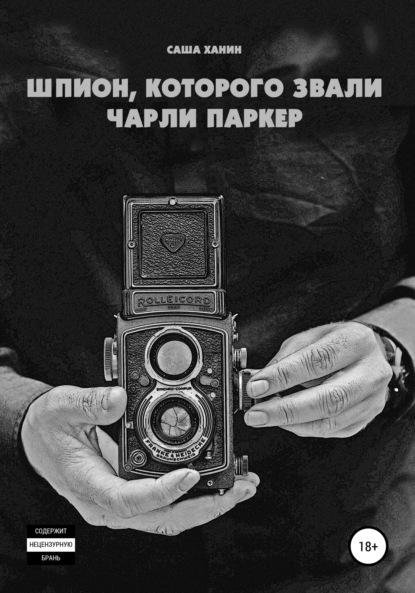




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0