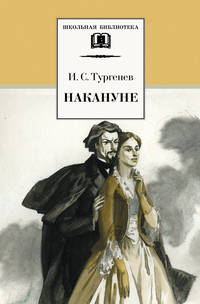
Накануне
Шубин, говоря о том, что Инсаров связан со своим народом общей целью – освобождением родины, – посмеивается над славянофилами (тут, без сомнения, Тургенев в его речь вкладывает свои мысли): «Он с своею землею связан – не то что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука!» Поднятая славянофилами проблема утраты образованным обществом народности существовала в реальности. Задача объединения нации на каждом шагу обнаруживала свою необыкновенную сложность… Тургенев считал, что и народ («простой») нужно учить, хотя отчасти приближать к интеллигентской культуре, пробуждать в каждом члене общины личность. Сам он во время подготовки реформы деятельно организовывает «Общество для распространения грамотности и первоначального образования». «Предприятие это касается всей России», – пишет он П. В. Анненкову из Вентнора в августе 1860 года. В этом вопросе у него был взгляд, противоположный славянофильскому.
Что касается общины, то и тут у Тургенева был свой – личный и живой – опыт. Так, не дожидаясь манифестов, он предпринял «крестьянскую реформу» в собственном имении, переведя своих крестьян с барщины на оброк и вольнонаемный труд, причем свое хозяйство он стал называть на западный образец «фермой». Эти нововведения он осуществил уже к началу 1860 года. «С крестьянами я почти везде благополучно размежевался (оставив, разумеется, старое количество земли), – пишет он И. С. Аксакову в октябре 1859 года, – переселил их (с их согласия) – и с нынешней зимы они все поступают на оброк, по 3 рубля серебром с десятины… Крестьяне, перед разлукой с «господами» – становятся, как говорится у нас, козаками – и тащут с господ всё, что могут: хлеб, лес, скот и т. д. Я это вполне понимаю – но на первое время в наших местах исчезнут леса, которые все продают теперь с остервенением. Ничего: лес вырастет – и уже не кое-где и не кое-как, а по указаниям науки. Трезвости у нас нет – такой пьяный уголок. Так и будут крестьяне сидеть на оброке с земли… пока не придут распоряжения сверху. О мире, об общине, о мирской ответственности в наших околотках никто слышать не хочет: я почти убеждаюсь, что это надо будет наложить на крестьян в виде административной и финансовой меры: сами собою они не согласятся – то есть они дорожат миром – только с юридической точки зрения, – как самосудством, если можно так выразиться, но никак не иначе».
Итак, Тургенев, как ему казалось, убедился на деле, что крестьяне не дорожат общиной и что она, следовательно, несвойственна крестьянской жизни, как утверждали славянофилы. Для того чтобы ее ввести, надо, в сущности, «налагать» ее на крестьян в административном порядке… Поэтому он и подвергал сомнению такие утверждения, как, например, следующее: «Сельская община есть факт первостепенный, самородный и бытовой, возражать на него было бы так же бесполезно, как спорить против климата, языка или физиономии народа» (Ю. Ф. Самарин). То есть Тургенев такие идеи не мог не считать иллюзиями, а их носителей – Дон-Кихотами…
Однако как бы они, по мнению Тургенева, ни заблуждались, они были чистыми, нравственными людьми. У них был героизм именно в тургеневском смысле – готовность пожертвовать собой во имя блага общества. В этом отношении показательно письмо И. С. Аксакова (1844) к родителям, приславшим ему копию с письма Гоголя: «Нет, сознавая истину его слов, я не могу оторваться от жизни и стремлюсь к противоположной цели… Жить, посвятив себя изучению собственной души своей, углубляться в самосознание, просветить духовные очи свои и после долгой, трудной борьбы, после тяжкого подвига исполниться гармонии и божественной любви – высоко, прекрасно. Но это может быть уделом одного лица. Человечество живет, движется, трепещет действительностью… И так сильно сочувствие мое к человечеству, тревожно бегущему к неизвестной цели, так близки мне интересы его нравственной жизни и материальных выгод, что, охотно пожертвовав блаженством христианским, личным, я посвятил бы себя на общую пользу, согласился бы быть одним из камней пирамиды… Мне кажется, что с Гоголевым настроением духа… не будешь годиться для общественной жизни».
Эти слова Аксакова вполне могли бы принадлежать тургеневскому Дон-Кихоту. Они созвучны и герою «Накануне» – Дмитрию Инсарову, в котором Тургенев подчеркивает всяческую определенность: «Черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ». Берсенев называет его железным человеком. Сравнивая лица Берсенева и Инсарова, Шубин замечает: «У болгара характерное, скульптурное лицо… у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть». В отличие от созерцателя Берсенева Инсаров – деятель, ДонКихот, его деятельность подчинена одной цели. Стоило при нем помянуть Болгарию, «все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь». «Когда тот (Инсаров. – В. А.) говорит о своей родине, – пишет Елена в дневнике, – он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит – он делал и будет делать».
Инсаров не мыслитель, не философ, не художник – ни музыка, ни красота природы и искусства не привлекают его. В нем как бы нет перспективы. Он подобен плоскости или, точнее, прямой линии, устремленной в одну точку. Сушь и сила – вот поразительно точная характеристика, которую дает ему в романе Шубин. Уже здесь видна какая-то недостаточность… И в самом деле, отсутствие гамлетизма сильно обедняет этот образ. Так, в сцене, когда Инсаров защищает своих спутников от пьяных немцев (а он один в русской компании способен это сделать), Елена содрогается при виде того зловещего, почти жестокого выражения, которое принимает его лицо. «Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно».
У Дон-Кихота, как, впрочем, и у Гамлета, есть оборотная сторона, есть грань, переступив которую, добро и героизм грозят перевоплотиться в зло, в жестокость. Любовь к родине может обернуться ненавистью к иноплеменникам, национально-освободительная борьба – в жестокую резню, подчинение своей личности общей цели – в презрение к отдельному человеку… И вот художник и мыслитель Шубин, понимая эту опасность, лепит два бюста Инсарова. Один изображает благородного героя, а на другом «молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии «супруга овец тонкорунных», и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться». Этот второй лик Инсарова Берсенев назвал «Берегитесь, колбасники» (подразумевая немцев). Однако если Шубин, вылепивший нечто подобное и на свой счет, способен был осознать свои недостатки, то Инсаров к такому осознанию способен не был.
По мнению Тургенева, любовь – ненависть (этот «глухой огонь», сжигающий Инсарова), не ограниченная ни единым проявлением жалости или слабости, это безудержное стремление к своей единственной цели, в состоянии погубить своего носителя. Он рисует символическую ситуацию: Инсаров умирает от болезни, в которой, как говорит врач, «его же силы теперь против него направлены».
Тургенев все время подчеркивает, что Инсаров человек не русский, что русский не мог бы быть похожим на него. Елена спрашивает себя: «Отчего он не русский? Нет, он не мог быть русским». В его целеустремленности и методическом упорстве Берсеневу и Шубину видится какая-то «неметчина». «Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же, как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною». Но была ли бы такая аккуратность смешною в деле – кто знает… Не смешон и принцип не менять никаких своих решений, – это ведь принцип самоуверенной безгрешности, опасный для всех прочих…
Так Тургенев вплотную подводит читателя к спору с революционными демократами о сильной личности, которую они упорно противопоставляли «нерешительным» интеллигентам-дворянам (например, Чернышевский в статье по поводу «Аси»). Пародируя Чернышевского, Тургенев вводит в одну из речей Шубина такую характеристику «решительного» деятеля: «Герой не должен уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом – стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра». В самой последней фразе – ответ Тургенева Чернышевскому. Герои другого калибра – сознательно-героические натуры…
Что могли бы принести России герои, подобные Инсарову, такие желанные для русских демократов? Тургенев чувствовал, что Инсаровы могут становиться жестокими тиранами. И если это возможно в Болгарии, где герой находится в единстве с народом (у них одна цель!), то что говорить о России, где все разобщено? Призывать к революционной борьбе против «внутренних турок» (как выразился Добролюбов в статье о «Накануне») – значит вести к окончательному расколу нации, к кровопролитию, страшным бедствиям… Это отсутствие сознания, этот утопизм революционных демократов Тургенев определил совершенно безошибочно. Вот почему он был возмущен статьей Добролюбова «Новая повесть г. Тургенева», где роман использован был лишь как средство для революционной пропаганды против «внутренних турок». Он просил Некрасова, редактора журнала «Современник», не публиковать этой статьи. И после того как она в журнале все-таки появилась, вышел из состава редакции, перестал печататься в нем.
Инсаров – болгарин. Таких мужчин, как он, в России не было (в романе это подчеркнуто). Но уже стали пробуждаться к деятельности женщины, и, конечно, по-своему, через любовь, приобщаясь к большим общественным делам. Елена Стахова – во многом отражение Инсарова, но не его тень. Она похожа на него резкостью своих черт, устремленностью вперед. «Она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед». «Слабость возмущала ее, – пишет Тургенев, – глупость сердила, ложь она не прощала «во веки веков»; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, – а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, – и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь».
Так же, как Инсарова, ее не привлекают ни чтение, ни музыка, ни красоты природы – ей чужда вообще созерцательность… Она с детства стремится к деятельному добру. «Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили», – пишет Тургенев. Она всегда готова к самопожертвованию. Но это самопожертвование – не христианское смирение, ведь даже милостыню она подает нищим «с невольною важностью»… А жертвует она всем. По мнению Тургенева, именно такой тип женской самоотверженности и героизма обладает жизнестойкостью, будущим. Вместе с тем это пример русского героизма, русского самопожертвования, характер, выросший именно на русской почве. «А дочь Николая Артемьевича Стахова! – восклицает Шубин. – Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну…» Но не пришло то время, как полагает Тургенев, когда натуры, подобные Елене Стаховой, будут нужны России. А нужны они – будут…
Елена, очевидно, символизирует в романе женский тип героизма (свойственный не только женщинам). Вот что писал о женственности в характере славян в те же годы Герцен: «Восприимчивый характер славян, их женственность, недостаток самодеятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют» (вспомним Увара Ивановича. – В. А.). Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усваивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непонимания друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым».
В 1857 году в Лондоне Тургенев мог слышать этот текст от самого Герцена (он был написан, но еще не опубликован). Тургенев сообщает Полине Виардо в мае того же года: «Утром был у Герцена, который читал мне свои «Воспоминания». Мысль Герцена, по всей видимости, была близка Тургеневу, также считавшему, что Россия должна пойти за Западом, взяв оттуда все лучшее. Перекликаются со всей проблематикой романа и рассуждения Герцена о своеобразии России, полемически направленные против славянофилов. «Ошибка славян (то есть славянофилов. – В. А.) состояла в том, – писал он, – что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития… Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском».
Из подобных представлений выросла в романе Тургенева фигура Берсенева. Это пример человека, в котором есть «живые стихии» русской жизни, но который оплодотворен мыслью Запада. Не случайно Шубин называет его «будущим посредником между наукою и российскою публикой». Тургенев намеренно сближает Берсенева с Инсаровым. Не случайно Елена едва не полюбила Берсенева. Она как бы жалела, что в Инсарове (мужчине, бойце) нет берсеневских черт (кротости, мягкости). Елене кажется, что Берсенев не обладает волей, но это далеко не так. Его воля, не отражаясь в его внешности, служит ему не хуже, чем Инсарову. Есть у него благородная цель и идея (пусть не такая яркая и великая!): память об отце, передавшем ему перед смертью «светоч» науки и благословившем его на служение ей. Он всегда с книгой, за изучением философии и истории. «Недаром мне говаривал отец, – вспоминает Берсенев, – мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики – мы труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастие!»
Правда, предмет его занятий далек от насущных нужд России, его не употребишь в деле подготовки текущих реформ… Он устремлен в будущее, ложится в основу просвещения грядущих поколений (Берсенев хотел «идти по следам» знаменитого историка Грановского)… Он нисколько не эгоист. «Я люблю говорить с Андреем Петровичем, – пишет Елена в дневнике о Берсеневе, – никогда ни слова о себе, все о чем-нибудь дельном, полезном». Поступки Берсенева благородны, но он как бы не сознает этого, то есть они естественны. Он, например, сообщает Елене, которую всей душой любит сам, о любви к ней Инсарова. Просиживает у постели Инсарова дни и ночи и спасает его от верной смерти. Желание помогать, спасать да еще светлая печаль живут в его сердце. В этой светлой печали слышится душа самого Тургенева («самого печального человека на свете», как о нем говорили, что весьма напоминает рыцаря Печального Образа, то есть Дон-Кихота…). «Всё очень тихо вокруг, – пишет Тургенев в июле 1859 года М. А. Маркович, – слышатся детские голоса и шаги (у г-жи Виардо прелестные дети) – в саду воркуют дикие голуби – а малиновка распевает; ветер веет мне в лицо – а на сердце у меня – едва ли не старческая грусть. Нет счастья вне семьи – и вне родины; каждый сиди на своем гнезде и пускай корни в родную землю… Что лепиться к краешку чужого гнезда!..» Те же чувства и те же слова у Берсенева: «Что за охота лепиться к краешку чужого гнезда?..»
«О вы, русские, золотые у вас сердца!» – восклицает Инсаров, имея в виду главным образом Берсенева. Жизнь сердца – действительно главное в Берсеневе. Тургенев показывает, что во всех тех героях, которые ему хоть сколько-нибудь симпатичны, эта жизнь сердца играет большую роль. Мягкость души, сердечность русского человека нередко выражается в его способности плакать (может быть, это происходит от способности русского человека к глубокому покаянию, в православном понимании слезы – великий Божий дар). Как отмечают современники, этой способностью обладал сам Тургенев… Все герои «Накануне», кроме «железного» Инсарова, Зои да «машины» Курнатовского, имеют этот дар. Впрочем, и железная душа Инсарова однажды смягчилась. «Он стоял неподвижно, он окружал своими крепкими объятиями эту молодую, отдавшуюся ему жизнь… чувство умиления, чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу, и никогда еще не изведанные слезы навернулись на его глаза…» Слезы их – Елены, Шубина, отца и матери Елены, в особенности Берсенева, – очищающие и примиряющие, идущие от полноты сердца, – льются в минуты счастья и в те редкие минуты, когда душа раскрывается для добра, прощения, соединения, как, например, лились эти слезы у отца Елены в прощальной сцене его последнего родительского благословения.
Не принимая идеи об общине и общинном сознании как идеале русской жизни, Тургенев показывает в «Накануне», что в крайние, поворотные моменты жизни почти все его герои способны отказаться от личных – эгоистических – интересов, забыть о себе (а это и есть проявление общинного сознания). Это означает, что они – живые души. Так с великим трудом, но все же преодолевает свой эгоизм Шубин, осознав его со «смиренномудрием» (не случайно здесь Тургенев употребляет слово православного богословского словаря), так Берсенев, не страдая «многоглаголанием» (и это слово оттуда), тихо и незаметно совершает чудо самопожертвования. Так мать Елены делает все, чтобы отец простил Елену, а когда уже у нее готов сорваться с языка укор Инсарову, она поднимает глаза и, увидя его больным, забывает свои упреки, ее охватывает жалость. В особенности эти свойства русского человека сказываются в характере отца Елены. Тургенев рисует его пошловатым, опустившимся, иногда жестоким, смешным, капризным, и ни герои романа, ни читатель не принимают его всерьез. Но сцена отъезда Елены и Инсарова и прощание с ними Николая Артемьевича принадлежат к самым сильным и потрясающим эпизодам в русской прозе. Широта натуры, отцовское горе, полное забвение себя и своих обид, яркая вспышка любви – все слилось в этой сцене отцовского напутствия…
Тургенев, подобно Гоголю, придавал огромное, почти мистическое значение языку народа – русскому языку, – видя в нем его живую душу (вспомним его стихотворение в прозе «Русский язык»: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!..»), хранительницу всех качеств народа. Откуда в Стахове вдруг появилось это безоглядное благородство (а вместе с тем и народные, национальные качества)? Да оно жило в его душе, как живет в душе всякого русского, ожидая своего решительного часа, чтобы воплотиться в действие… Жило в памяти, в слове…
Герои «Накануне», все эти Гамлеты и Дон-Кихоты – поистине «живые души», несущие в себе зародыши будущего. Но этого будущего для России Тургенев не мыслит без участия Европы. И он отправляет туда сначала Берсенева (в Гейдельберг, Берлин и Париж), который стал ученым и публикует статьи, готовясь в профессора… потом Шубина в Рим, где он как скульптор не встречает понимания богатых русских заказчиков, предпочитающих ему поверхностных французов… Шубин в Риме думает о России. «Помните, я спрашивал у вас… будут ли у нас люди? – пишет он Увару Ивановичу, – и вы мне отвечали: «Будут». О черноземная сила! И вот теперь я отсюда, из моего «прекрасного далека», снова вас спрашиваю: «Ну что же, Увар Иванович, будут?» – Шубин цитирует Гоголя… Следующей фразой Тургенев кончает роман: «Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор».
Так, с явным воспоминанием о Гоголе (с характерным для него Римом, где плодотворнее всего работал он над «Мертвыми душами») Тургенев расстается со своими героями и сам, как бы вместе с Гоголем, задумывается о России – он, как и Гоголь, видит ее по большей части из своего «прекрасного далека»…
Виктор АфанасьевНакануне
IВ тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью – беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.
В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.
– Отчего ты не лежишь, как я, на груди? – начал Шубин. – Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку – вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж – смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!
Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфекты), и, не дождавшись ответа, продолжал:
– Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?
– Что? – проговорил, встрепенувшись, Берсенев.
– Что! – повторил Шубин. – Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.
– Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.)
– Важный пущен колер, – промолвил Шубин. – Одно слово, натура!
Берсенев покачал головой.
– Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.
– Нет-с; это не по моей части-с, – возразил Шубин и надел шляпу на затылок. – Я мясник-с; мое дело – мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны… Пойди поймай!

