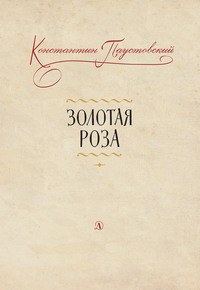
Золотая роза. Заметки о писательском труде
– Презираю!
Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядном, и кучер Игнатий Лойола (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.
Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.
В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.
Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.
Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков – седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях.
От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.
Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.
Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.
На ступеньках сидели двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы, – он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.
– Клопы? – спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку.
Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна:
– Марш с моего двора, голота! Тысячу раз тебе повторять!
Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:
– Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!
Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:
– А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю – если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.
– За тех клопов, – сказал мне Иоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, – вы еще заплатите Кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.
– Иося! – неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек. – За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна…
– Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова! – сердито воскликнул Иося. – Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.
– Доня моя! – сказал с отчаянием Никифор. – Закатилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.
– Хватит! – прикрикнул на него Иося.
– Панихиду по ней отслужить – и то не позволяют! – не слушая Иосю, сказал Никифор. – Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилует.
– Хватит! – повторил Иося. – За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!
Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.
– Плачь, дурной, – спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор. – Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.
– Кончайте! – крикнул Иося. – Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.
– Дурной ты был и остался дурной, – печально ответил Никифор. – Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.
– А на кого вы хату покинули? – спросил Иося, перестав плакать.
– Ни на кого. Заколотил – и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!
Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.
– Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! – с досадой сказал Никифор. – Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?
Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.
Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего – все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.
Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.
От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.
От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос – кто я и зачем попал в это местечко.
Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:
Не разбужу я песней удалоюРоскошный сон красавицы моей.– Лазарь! – крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. – Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!
Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.
– Как увидит кого в парикмахерской, – объяснил он со вздохом, – так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.
– А что с ним? – спросил я.
Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами.
– Слушайте, клиент! – сказала она. – Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.
– Маня, – сказал парикмахер, – не увлекайся.
Иоська кричал где-то уже в отдалении:
Как умру, так приходитеНа мою могилку,Колбасы мне принеситеДа ханжи бутылку!– Какой ужас! – сказала Маня. – И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи – самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!
– Что ты такое говоришь, Маня! – воскликнул парикмахер. – Клиент же ничего от тебя не поймет.
– Была у нас ярмарка, – сказала Маня. – На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу, – глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно было жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете – Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой, как жена, и он был такой веселый, Иоська, – светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?
– Ой, тетя Песя! – вздохнул парикмахер. – Это была женщина!
– Постой, дай рассказать! – прикрикнула на него Маня. – Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом, и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила! «Вы не раввин, – сказала она. – Вы городовой! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».
Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную, – говорил потом, что хотел только попугать. Что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-кипур, в Судный день, она как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая, – должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.
– Я б на его месте предпочел умереть, – сказал парикмахер. – Пустил бы себе пулю в лоб.
– Ой, какие вы храбрецы! – воскликнула Маня. – А как дойдет до дела, то будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.
– Что женское, что мужское сердце, – ответил парикмахер и пожал плечами, – какая разница!
Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Иоськи, и Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.
Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване.
Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.
Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан.
Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине.
Думая об этом, я и решил написать свой первый, как я говорил себе, «настоящий рассказ» о судьбе Христи.
Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекался любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.
Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.
Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:
– Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое. И подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.
Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора – ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.
Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору – не для печатания, а для оценки.
Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово:
– Благословляю!
Так впервые я убедился в том, то главное для писателя – это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя – ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.
Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.
Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.
Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет.
Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод – тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.
Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал.
Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.
Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.
В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.
Поняв это, я совершенно бросил писать – на десять лет – и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.
Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.
Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.
Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно – что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.
Молния
Как рождается замысел?
Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью.
Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя.
Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи.
Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли.
– Представьте себе, – ответил Джинс, – исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе. И вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля.
Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.
Замысел – это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи, и в них из густого электрического настоя рождается первая искра – молния.
Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.
Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию – замысел.
Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.
Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее в душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.
Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.
Лев Толстой увидел сломанный репейник – и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.
Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию.
Если молния – замысел, то ливень – это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.
Но в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным.
«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».
Лишь постепенно замысел зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание замысла» происходит совсем по-иному, нежели представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками, или бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои думы.
Совсем нет! Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей «быстротекущей жизни».
Чтобы дать замыслу созреть, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить «в себя». Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли.
Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью.
Больше всего опошлено вдохновение.
Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера.
Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет.
Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка!
На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры кургузого и как бы завитого перманентом Пушкина с «вдохновенным» взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать:
– Мама, он мечту мечтает? Или что?
– Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту, – разнеженно ответила мать.
Дядя Пушкин «грезит грезу»! Тот Пушкин, что сказал о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал!»
А если «святое» вдохновение «осеняет» (обязательно «святое» и обязательно «осеняет») композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие, несомненно, звучат сейчас в его душе, – совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве.
Нет! Вдохновение – это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества».
Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». «Критики, – сказал он вдобавок, – смешивают вдохновение с восторгом». Так же как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием.
Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с «телячьим восторгом», то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду.
Чайковский утверждал, что вдохновение – это состояние, когда человек работает во всю силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.
Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше, совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель.
Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения – душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.
Да, вдохновение – это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.
Вдохновение входит в нас как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.
Вдохновение – как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.
Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.
О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» (Пушкин). «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов). «Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:
Одним толчком согнать ладью живуюС наглаженных отливами песков,Одной волной подняться в жизнь инуюУчуять ветр с цветущих берегов,Тоскливый сон прервать единым звуком,Упиться вдруг неведомым, родным,Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,Чужое вмиг почувствовать своим…Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.
Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».
Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей.
Бунт героев
В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы.
Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью.
Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами «бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы.
Все это было очень таинственно. Но самым удивительным представлялось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны, и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.
У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители.
Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подальше, во внутренние потайные карманы.