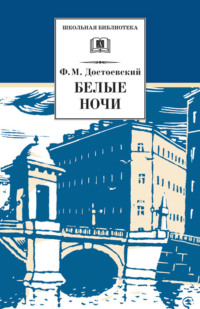
Белые ночи
Существовал, например, издавна такой жанр – путешествие. Ясно, что путешествовать – значит передвигаться во времени и пространстве, и рассказ о путешествии естественно выливался в описания различных сел, городов, стран, которые посетил герой. Но сентименталисты установили новое понимание путешествия – путешествие души и сердца, путешествие воображения. В таком путешествии несущественны те реальные достопримечательности, которые видит герой (подчас мы о них ничего и не узнаем), – важно то, что он при этом думает и переживает. Это чувствительное или «сентиментальное путешествие», как назвал свое произведение знаменитый английский писатель Л. Стерн.
Но времена менялись, и понятие сентиментального, так сказать, понизилось в цене. Оно стало выражением приторной чувствительности, мелочности ощущений, докучливой слезливости.
Положение вновь изменилось в 40-е годы XIX века с возникновением «натуральной школы». Писатели, провозгласившие интерес к обыкновенному, частному человеку, восстановили в правах значение чувства, неприметных и еле уловимых переживаний. Ап. Григорьев – критик, на которого мы уже не раз ссылались, склонен был даже называть чуть ли не всю «натуральную школу» школой «сентиментального натурализма». И типичным ее образцом он считал «Белые ночи».
Итак, это не просто роман, а сентиментальный, то есть овеянный поэзией сердечного чувства, размывающей контуры реальных событий и происшествий. Нечто аналогичное «сентиментальному путешествию».
И тут мы обращаемся к словам самого заголовка – «Белые ночи».
5
Обратим внимание: все действие романа происходит ночью. В нем даже нет привычного деления на главы, есть ночи: «Ночь первая», «Ночь вторая»… Всего четыре ночи.
Скупа, лаконична и ночная декорация: только набережная канала, на которой встретились мечтатель и Настенька; скамейка – «наша скамейка», – на которой они сидели. Все остальное уходит в темноту. Как на сцене: свет прожектора выхватывает из мглы только два-три предмета и действующих лиц.
Мечтатель говорит: «Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь…» Счет идет на «ночи», как в иных случаях на дни, сутки, месяцы или годы. Потому что каждая ночь – это событие, свидание с нею.
Так возникает контраст дня и ночи. Ночь «лучше дня». День обычно бывает нехороший – «…печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя». И в другом месте: «День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла…»
В «Петербургской летописи», произведении, как мы говорили, предвосхищающем «Белые ночи», рисуется пробуждение города ото сна: «Петербург встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожелтевшая со злости на вчерашний бал».
Из этих строк, между прочим, видно, почему рассказчик так не любит желтую краску. Это цвет болезни, раздражения, желчи; или цвет увядания, осени. Ночью он не виден, а утром и днем в Петербурге (где действительно преобладала желтая краска) так и мечется в глаза.
В «Белых ночах» рассказана история, случившаяся «с одним прехорошеньким светло-розовым домиком»: мечтатель, со свойственным ему пониманием языка неодушевленных предметов, однажды услышал «жалобный крик» этого дома: «А меня красят в желтую краску!» Так уже с первых строк романа предвещается мотив увядания, гибели фантастических грез: «Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев» (курсив мой. – Ю. М.).
Кстати, на первых же страницах есть еще один образ, предвосхищающий развитие действия, – образ «девушки, чахлой и хворой», с которой сравнивается короткая и хрупкая петербургская весна. «И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота… жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени». Полюбить-то мечтатель Настеньку успел, но так же скоротечно, так же стремительно промчалась для него пора надежд и ожиданий, прекрасная пораночных обольщений…
Но пока еще не наступила развязка, в романе разлито какое-то всевластие ночи. «Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды… Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди?» Звездное небо – давний художественный образ, выражающий идею бесконечного, приобщения человека к мировой гармонии, согласия…
Да и вообще символика ночи, противопоставление ночи и дня – все это имеет в искусстве глубокие корни, особенно в искусстве романтическом. «Ночные мысли» английского поэта Юнга, «Гимны к ночи» немецкого писателя Новалиса, «Ночные бдения Бонавентуры» неизвестного немецкого автора, «Флорентийские ночи» Г. Гейне – этот перечень «ночных» произведений можно продолжать и продолжать. В России за несколько лет до романа Достоевского вышли «Русские ночи» В. Ф. Одоевского – произведение, которое, кстати, тоже делится не на главы, а на «ночи».
И всегда с образом «ночи» связывался более или менее устойчивый круг значений. Ночь – пора мечтаний, сокровенной жизни духа, подъема чувств. Ночь – поэзия. А день – проза.
Но у этого контраста (ночь и день) есть и оборотная сторона. В мечтаниях ночи скрыто что-то неверное, преходящее, не выдерживающее лучей света, сияния дня. «.. После моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны!» – говорит мечтатель. Ночь фантастична не только потому, что она царство воображения, но и потому, что созидаемое воображением непрочно. А тут ведь еще не просто ночи, а белые.
О чем говорит нам этот эпитет?
В нем есть прежде всего колорит места, то есть характерная примета северной столицы. Ведь белые ночи – черта петербургского пейзажа, как говорят сегодня – визитная карточка города. Помните в пушкинском «Медном всаднике» описание «задумчивых ночей»?
Когда я в комнате моейПишу, читаю без лампады,И ясны спящие громадыПустынных улиц, и светлаАдмиралтейская игла.У Пушкина белые ночи – пора ясной мысли, вдохновенного, сосредоточенного труда; тем не менее эта пора предвещает другую – ноябрьскую, осеннюю, ненастную, когда разыгрались таинственные силы природы. У Достоевского драматизм и призрачность влились как бы в самый образ белых ночей.
В таких ночах есть что-то ненастоящее, странное, промежуточное. Нечто такое, к чему подходят строки Жуковского из поэмы «Шильонский узник»:
То не было ни ночь, ни день….То было тьма без темноты,То было бездна пустотыБез протяженья и границ;То были образы без лиц…Словом, «фантастические ночи»!
Еще вспоминаются строки Б. Садовского, поэта конца XIX – начала XX века: эти строки навеяны ранней прозой Достоевского:
Ночь белая болезненна, бледна.Вот юный Достоевский у окна.Пред ним в слезах Некрасов, Григорович…Ночь, болезненная и бледная, как девушка, «чахлая и хворая», мелькнувшая на первых страницах романа. Такие ночи тоже обречены на скорое исчезновение, на смерть.
В произведении, состоящем из четырех «ночей», заменяющих главки, есть лишь одно «утро». Но это утро – как эпилог. «Мои ночи кончились утром. День был нехороший» и т. д. Утро принесло с собою конец «ночам», конец «истории» мечтателя, то есть его реальным, а не выдуманным отношениям с девушкой, а вместе с тем и конец «сентиментальному роману».
6
В «Петербургской летописи» есть строки, которые затрагивают как бы саму сердцевину «Белых ночей». Приведем поэтому большую цитату из фельетона.
Говоря о том, как трудно современному человеку найти разумное применение своим силам, «свою деятельность», Достоевский замечает: «В характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностию, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода – мечтателем. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая… Селятся они большею частию в глубоком уединении, по неприступным углам, как будто таясь в них от людей и от света… Они угрюмы и неразговорчивы с домашними, углублены в себя, но очень любят все ленивое, легкое, созерцательное… Фантазия их, подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и целый мечтательный мир, с радостями и горестями, садом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими подвигами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбой, с преступлениями и всякими ужасами, вдруг овладевает всем бытием мечтателя… Иногда целые ночи проходят незаметно в неописанных наслаждениях; часто в несколько часов переживается рай любви или целая жизнь громадная, гигантская, неслыханная, чудная, как сон, грандиозно-прекрасная… Минуты отрезвления ужасны; несчастный их не выносит и немедленно принимает свой яд в новых, увеличенных дозах… Мало-помалу проказник наш начинает чуждаться толпы, чуждаться общих интересов, и постепенно, неприметно начинает в нем притупляться талант действительной жизни… Наконец, в заблуждении своем он совершенно теряет то нравственное чутье, которым человек способен оценить всю красоту настоящего, он сбивается, теряется, упускает моменты действительного счастья…»
Не правда ли, перед нами словно набросок, конспект будущего героя «Белых ночей» (напомню, что фельетон написан годом раньше, чем роман)? Уже здесь отмечено, что мечтатель – характерное порождение Петербурга («это кошмар петербургский»); описан весь образ жизни этого «странного существа» – наклонность к мечтам, к фантазированию, принимающая неслыханные размеры; способность созидать в воображении целые миры и переселяться в них душою и телом; пристрастие к «ночам» – времени суток, в которое чувствует он себя и вольготнее и счастливее… Отмечен и тот порочный круг, в который попадает мечтатель, когда один призрак питает другой и выстраивается вереница призраков: «Бывают мечтатели, которые даже справляют годовщину своим фантастическим ощущениям». Эти строки почти без изменений перешли затем в «Белые ночи».
Правда, может показаться, что в «Петербургской летописи» мечтатель оценен строже, суровее, чем в романе. Отчасти это так, но только отчасти.
Не забудем, что в романе слово предоставлено самому мечтателю, а в фельетоне о нем говорит повествователь. Мечтатель, как и автор, чувствует ущербность, неполноту своего образа жизни (он так же называет себя «существом среднего рода», да и многие другие определения совпадают), однако изнутри нам внятнее трогательная поэзия его грез, благородство и трагизм его облика. Зато повествователю со стороны виднее, как необходим, насущно необходим выход из состояния «мечтательности».
Соотношение фельетона и романа можно представить себе так: фельетон тяготеет к внешней точке зрения на мечтателя, а роман – к внутренней. Правда, различие это относительное. Помните начало исповеди мечтателя? «Позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать…» Мечтатель превращает себя в некоего другого человека, так как он хочет быть объективным, беспристрастным – и во многом ему это удается. Но все же важно то, что рассказывает о себе он сам, а не «постороннее» лицо.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов