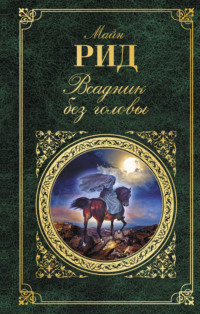
Всадник без головы
– Обо мне не беспокойтесь: я знаю, что надвигается. Не впервые я встречаюсь с этим… Прячьтесь, прячьтесь, умоляю вас! Нельзя терять ни секунды. Вы слышите завывание? Скорее, пока на нас не налетела пылевая туча!
Плантатор и Генри быстро соскочили с лошадей и вошли в карету. Колхаун упрямо продолжал сидеть в седле. Почему он должен бояться какой-то воображаемой опасности, от которой не прячется этот человек в мексиканском костюме?
Незнакомец велел надсмотрщику залезть в ближайший фургон, чему тот беспрекословно повиновался. Теперь можно было подумать и о себе.
Молодой человек быстро развернул свое серапе – оно было прикреплено к седлу, – набросил его на голову лошади, обмотал концы вокруг ее шеи и завязал узлом. С не меньшей ловкостью он развязал свой шарф из китайского шелка и обтянул его вокруг шляпы, заткнув один конец за ленту, а другой спустив вниз, – таким образом, получилось нечто вроде шелкового забрала.
Прежде чем совсем закрыть лицо, он еще раз обернулся к карете и, к своему удивлению, увидел, что Колхаун все еще сидит верхом на лошади. Поборов в себе невольную антипатию к этому человеку, незнакомец настойчиво сказал:
– Спрячьтесь же, сэр, умоляю вас! Иначе через десять минут вас не будет в живых.
Колхаун повиновался: признаки надвигающейся бури были слишком очевидны; с показной медлительностью он слез с седла и забрался в карету, под защиту плотно задернутых занавесок.
То, что произошло дальше, с трудом поддается описанию. Никто не видел зрелища разыгравшейся стихии, так как никто не смел взглянуть на него. Но если бы кто-нибудь и осмелился, он все равно ничего не увидел бы. Через пять минут после того, как были обвязаны головы мулов, караван окутала кромешная тьма.
Путешественники видели лишь самое начало урагана. Один из надвигавшихся смерчей, натолкнувшись на фургон, рассыпался густой черной пылью – казалось, что с неба пошел пороховой дождь. Но это было лишь начало.
Ненадолго показался просвет, и путников обдало горячим воздухом, словно из жерла домны. Затем со свистом и воем подул порывистый ветер, неся леденящий холод; завывания его были так оглушительны, что казалось, все трубы Эола[10] возвещают о появлении Короля Бурь.
Через мгновение норд настиг караван, и путешественники, остановившиеся на субтропической равнине, попали в мороз, подобный тому, который сковывает ледяные горы на Ледовитом океане.
Все окутал мрак, ничего не было слышно, кроме свиста ветра и его глухого рева, когда он налетал на навесы фургонов.
Мулы, инстинктивно повернувшись к нему задом, стояли притихшие. Голоса людей, взволнованно разговаривавших в карете и фургонах, заглушались воем урагана.
Все щели были закрыты, потому что стоило только высунуться из-за полотняного навеса, как можно было задохнуться. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым бушующим ветром с выжженной прерии и превращенным в мельчайшую смертоносную пыль.
Больше часа носились в воздухе черные облака пепла; все это время путешественники просидели, не смея выглянуть наружу.
Наконец около самых занавесок кареты раздался голос незнакомца.
– Теперь можно выйти, – сказал он, отбрасывая шелковый шарф со своего лица. – Буря не прекратилась, она будет длиться до конца вашего путешествия и еще дня три. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметен. Он пронесся вперед, и вряд ли вы настигнете его по эту сторону Рио-Гранде.
– Сэр, – сказал плантатор, поспешно спускаясь по ступенькам кареты, – мы вам обязаны…
– …жизнью! – воскликнул Генри, найдя нужное слово. – Я надеюсь, сэр, что вы окажете нам честь назвать свое имя.
– Морис Джеральд, – ответил незнакомец. – Хотя в форту меня обычно называют Морисом-мустангером[11].
– Мустангер! – презрительно пробормотал Колхаун, но настолько тихо, что услышать его могла только Луиза.
«Всего лишь мустангер», – разочарованно подумал про себя аристократ Пойндекстер.
– Теперь я вам больше не нужен. Дорогу вы найдете без меня и моего лассо, – сказал охотник за дикими лошадьми. – Кипарис виден, держите прямо на него. Перейдя реку, вы увидите флаг, развевающийся над фортом. Вы успеете закончить путешествие до наступления темноты. Я же спешу и должен распрощаться с вами.
Если мы вообразим себе сатану верхом на адском коне, то довольно точно представим себе Мориса-мустангера, когда он во второй раз покидал плантатора и его спутников.
Однако ни запачканное пеплом лицо, ни скромная профессия не могли уронить мустангера в глазах Луизы Пойндекстер – он уже завоевал ее сердце.
Когда Луиза услышала его имя, она прижала карточку к груди и в задумчивости прошептала так тихо, что никто, кроме нее самой, не мог услышать:
– Морис-мустангер, ты покорил сердце креолки! Боже мой, боже мой! Он слишком похож на Люцифера[12], могу ли я презирать его!
Глава V
Жилище охотника за мустангами
Там, где Рио-де-Нуэсес (Ореховая река) собирает свои воды из сотни речек и ручейков, испещряющих карту, словно ветви большого дерева, лежат удивительно живописные места. Это холмистая прерия, по которой разбросаны дубовые и ореховые рощи, то здесь, то там вдоль берегов сливающиеся в сплошные зеленые массивы леса.
Местами этот лес сменяется густыми зарослями, где среди всевозможных видов акации растет копайский бальзам, креозотовый кустарник, дикое алоэ; там же встречаются экзотическое растение цереус, всевозможные кактусы и древовидная юкка.
Эти колючие растения не радуют земледельца, потому что они обычно растут на тощей земле; зато для ботаника и любителя природы здесь много привлекательного – особенно когда цереус раскрывает свои огромные, словно восковые, цветы или же фукиера, высоко поднявшись над кустарником, выбрасывает, словно развернутый флаг, свое великолепное алое соцветие.
Но есть там и плодородные места, где на известково-черноземной почве растут высокие деревья с пышной листвой: индейское мыльное дерево, ореховое дерево, вязы, дубы нескольких видов, кое-где встречаются кипарисы и тополя; этот лес переливается всеми оттенками зелени, и его по справедливости можно назвать прекрасным.
Ручьи в этих местах кристально-чисты – они отражают сапфировую синеву неба. Облака почти никогда не заслоняют солнце, луну и звезды. Здесь не знают болезней – ни одна эпидемия не проникла в эти благословенные места.
Но цивилизованный человек еще не поселился здесь, и по-прежнему лишь одни краснокожие команчи[13] пробиваются по запутанным лесным тропам, и то лишь когда верхом на лошадях они отправляются в набег на поселения Нижней Нуэсес, или Леоны. Неудивительно, что дикие звери избрали эти глухие места своим пристанищем. Нигде во всем Техасе вы не встретите столько оленей и пугливых антилоп, как здесь. Кролики все время мелькают перед вами; немного реже попадаются на глаза дикие свиньи, хорьки, суслики.
Красивые пестрые птицы оживляют ландшафт. Перепела, шурша крыльями, взвиваются к небу; королевский гриф парит в воздухе; дикий индюк огромных размеров греет на солнце свою блестящую грудь у опушки ореховой рощи; а среди перистых акаций мелькает длинный, похожий на ножницы хвост птицы-портнихи, которую местные охотники называют «райской птицей».
Великолепные бабочки то порхают в воздухе, широко расправив крылья, то отдыхают на цветке и тогда кажутся его лепестками. Огромные бархатистые пчелы жужжат среди цветущих кустарников, оспаривая право на сладкий сок у колибри, которым они почти не уступают в величине.
Однако не все обитатели этих прекрасных мест безвредны. Нигде во всей Северной Америке гремучая змея не достигает таких размеров, как здесь; она прячется среди густой травы вместе с еще более опасной мокасиновой змеей. Здесь жалят ядовитые тарантулы, кусают скорпионы; а многоножке достаточно проползти по коже, чтобы вызвать лихорадку, которая может привести к роковому концу.
По лесистым берегам рек бродят пятнистый оцелот, пума[14] и их могучий родич – ягуар; именно здесь проходит северная граница его распространения.
По опушкам лесных зарослей скрывается тощий техасский волк, одинокий и молчаливый, а его сородич, трусливый койот, рыщет на открытой равнине с целой стаей своих собратьев.
В этой же прерии, где рыщут такие свирепые хищники, на ее сочных пастбищах пасется самое благородное и прекрасное из всех животных, самый умный из всех четвероногих друзей человека – лошадь.
Здесь живет она, дикая и свободная, не знающая капризов человека, незнакомая с уздой и удилами, с седлом и вьюком.
Но даже в этих заповедных местах ее не оставляют в покое.
Человек охотится за ней и укрощает ее. Здесь была поймана и приручена прекрасная дикая лошадь. Она попалась в руки молодому охотнику за лошадьми Морису-мустангеру.
* * *На берегу Аламо, кристально-чистого притока Рио-де-Нуэсес, стояло скромное, но живописное жилище, одно из тех, каких много в Техасе.
Это была хижина, построенная из расщепленных пополам стволов древовидной юкки, вбитых стоймя в землю, с крышей из штыковидных листьев этой же гигантской лилии.
Щели между жердями, вопреки обычаям западного Техаса, были не замазаны глиной, а завешаны с внутренней стороны хижины лошадиными шкурами, которые были прибиты не железными гвоздями, а шипами мексиканского столетника.
Окаймлявшие речную долину обрывы изобиловали растительностью, послужившей строительным материалом для хижины, – юккой, агавой и другими неприхотливыми растениями; а внизу плодородная долина на много миль была покрыта прекрасным лесом, где росли тутовые, ореховые деревья и дубы. Лесная полоса, собственно, ограничивалась долиной реки; вершины деревьев едва достигали верхнего края обрыва.
В массив леса со стороны реки местами вдавались небольшие луга, или саванны, поросшие сочнейшей травой, известной у мексиканцев под названием «грама».
На одной из таких полукруглых полянок – у самой реки – приютилось описанное нами незамысловатое жилище; стволы деревьев напоминали колонны, поддерживающие крышу лесного театра.
Хижина стояла в тени, спрятанная среди деревьев. Казалось, это укромное место было выбрано не случайно. Ее можно было видеть только со стороны реки, и то лишь в том случае, если встать прямо против нее. Примитивная простота постройки и поблекшие краски делали ее еще более незаметной.
Домик был величиной с большую палатку. Кроме двери, в нем не было других отверстий, если не считать трубы небольшого очага, сложенного у одной из стен. Деревянная рама двери была обтянута лошадиной шкурой и навешена при помощи петель, сделанных из такой же шкуры.
Позади хижины находился навес, подпертый шестью столбами и покрытый листьями юкки; он был обнесен небольшой изгородью из поперечных жердей, привязанных к стволам соседних деревьев.
Такой же изгородью был обнесен участок леса около акра величиной, расположенный между хижиной и отвесным берегом реки. Земля там была изрыта и испещрена множеством отпечатков копыт и местами совершенно утоптана; нетрудно было догадаться, что это кораль – загон для диких лошадей – мустангов.
Действительно, внутри этого загона находилось около десятка лошадей. Их дикие, испуганные глаза и порывистые движения не оставляли сомнения в том, что они только недавно пойманы и что им нелегко переносить неволю.
Убранство хижины не лишено было некоторого уюта и комфорта. Стены украшал сплошной ковер из мягких блестящих шкур мустангов. Шкуры – черные, гнедые, пегие и белоснежные – радовали глаз: видно было, что их подобрал человек со вкусом.
Мебель была чрезвычайно проста: кровать – козлы, обтянутые лошадиной шкурой, два самодельных табурета – уменьшенная разновидность того же образца, и простой стол, сколоченный из горбылей юкки, – вот и вся обстановка. В углу виднелось что-то вроде второй постели – она была сооружена из тех же неизбежных лошадиных шкур.
Совершенно неожиданными в этой скромной хижине были полка с книгами, перо, чернила, почтовая бумага и газеты на столе.
Здесь были еще другие вещи, не только напоминавшие о цивилизации, но говорившие даже об утонченном вкусе: прекрасный кожаный сундучок, двуствольное ружье, серебряный кубок чеканной работы, охотничий рог и серебряный свисток.
На полу стояло несколько предметов кухонной утвари, преимущественно жестяных; в углу – большая бутыль в ивовой плетенке, содержащая, по-видимому, напиток более крепкий, чем вода из Аламо.
Остальные вещи здесь более уместны: мексиканское, с высокой лукой, седло, уздечка с оголовьем из плетеного конского волоса, такие же поводья, два или три серапе, несколько мотков сыромятного ремня.
Таково было жилище мустангера, такова была его обстановка.
На одном из табуретов посреди комнаты сидел человек, который никак не мог быть самим мустангером. Он совсем не был похож на хозяина. Наоборот, по всей его внешности – по выражению привычной покорности – можно было безошибочно сказать, что это слуга.
Однако он вовсе не был плохо одет и не производил впечатления человека голодного или вообще обездоленного. Это был толстяк с копной рыжих волос и с красным лицом; на нем был костюм из грубой ткани – наполовину плисовый, наполовину вельветовый. Из плиса были сшиты его штаны и гетры; а из вельвета, когда-то бутылочно-зеленого цвета, но уже давно выцветшего и теперь почти коричневого, – охотничья куртка с большими карманами на груди. Фетровая шляпа с широкими опущенными полями довершала костюм этого человека, если не упомянуть о грубой коленкоровой рубашке с небрежно завязанным вокруг шеи красным платком и об ирландских башмаках.
Не только ирландские башмаки и плисовые штаны выдавали его национальность. Его губы, нос, глаза, вся его внешность и манеры говорили о том, что он ирландец.
Если бы у кого-нибудь и возникло сомнение, то оно сразу рассеялось бы, стоило толстяку открыть рот, чтобы начать говорить – что он и делал время от времени, – с таким произношением говорят только в графстве Голуэй. Можно было подумать, что ирландец разговаривает сам с собой, так как в хижине, кроме него, как будто никого не было. Однако это было не так. На подстилке из лошадиной шкуры перед тлеющим очагом, уткнувшись носом в золу, лежала большая собака. Казалось, она понимала язык своего собеседника. Во всяком случае, человек обращался к ней, как будто ждал, что она поймет каждое слово.
– Что, Тара, сокровище мое, – воскликнул человек в плисовых штанах, – хочешь назад в Баллибаллах? Небось рада бы побегать во дворе замка по чистым плитам! И подкормили бы тебя там как полагается, а то, глянь-ка, кожа да кости – все ребра пересчитаешь. Дружочек ты мой, мне и самому туда хочется! Но кто знает, когда молодой хозяин решит вернуться в родные места! Ну ничего, Тара! Он скоро поедет в поселок, старый ты мой пес, обещал и нас захватить – и то ладно. Черт побери! Вот уже три месяца, как я не был в форту. Может, там я и встречу какого-нибудь дружка среди ирландских солдат, которых сюда на днях прислали. Ну уж и выпьем тогда! Верно, Тара?
Услышав свое имя, собака подняла голову и фыркнула в ответ.
– Да и теперь бы неплохо промочить горло, – продолжал ирландец, бросая жадный взгляд в сторону бутыли. – Только бутыль-то ведь уже почти пустая, и молодой хозяин может хватиться. Да и нечестно пить не спросясь. Правда, Тара?
Собака опять подняла морду над золой и опять фыркнула.
– Ведь ты в прошлый раз сказала «да»? И теперь говоришь то же самое? А, Тара?
Собака снова издала тот же звук, который мог быть вызван либо небольшой простудой, либо пеплом, который попадал ей в ноздри.
– Опять «да»? Так и есть! Вот что эта немая тварь хочет сказать! Не соблазняй меня, старый воришка! Нет-нет, ни капли виски. Я только выну пробку из бутыли и понюхаю. Наверняка хозяин ничего не узнает; а если бы даже и узнал – он не рассердится. Только понюхать – это ведь не беда.
С этими словами ирландец встал и направился в угол, где стояла бутыль.
Несмотря на все заверения, в его движениях было что-то вороватое – то ли он сомневался в своей честности, то ли сомневался, хватит ли у него силы воли противостоять соблазну.
Он постоял немного, прислушиваясь, обернувшись к двери; потом поднял соблазнявший его сосуд, вытащил пробку и поднес горлышко к носу.
Несколько секунд он оставался в этой позе; среди тишины только время от времени раздавалось фырканье, подобное тому, которое издавала собака и которое ирландец истолковывал как утвердительный ответ на свои сомнения. Этот звук выражал удовольствие от ароматного крепкого напитка.
Однако это успокоило его лишь на короткое время; постепенно дно бутылки поднималось все выше, а горлышко с той же скоростью опускалось прямо к вытянутым губам.
– Черт побери! – воскликнул ирландец еще раз, взглянув украдкой на дверь. – Плоть и кровь не устоят против запаха этого чудесного виски – как не попробовать его! Куда ни шло! Я только одну каплю, лишь бы смочить кончик языка. Может быть, обожгу язык… ну да ладно.
И горлышко бутыли пришло в соприкосновение с губами; но, очевидно, дело шло не о «капле, чтобы смочить кончик языка», – послышалось бульканье убывающей жидкости, говорившее о том, что ирландец, видно, решил промочить как следует всю гортань и даже больше.
Чмокнув с удовлетворением несколько раз, он заткнул бутыль пробкой, поставил ее на место и снова уселся на свой стул.
– Ах ты, старая плутовка, Тара! Это ты ввела меня в искушение. Ну ничего, хозяин не узнает. Все равно он скоро поедет в форт и сможет сделать новый запас.
Несколько минут ирландец сидел молча. Думал ли он о своем проступке или просто наслаждался действием алкоголя – кто знает?
Вскоре он опять заговорил:
– И что это мастера Мориса так тянет в поселок? Он сказал, что отправится туда, как только поймает крапчатого мустанга. И на что ему вдруг так понадобилась эта лошадка? Это неспроста. Хозяин уже три раза охотился за ней и не смог набросить веревку на шею этой дикой твари, – а ведь сам-то был на гнедом, вот как! Он говорит, что разобьется в лепешку, а все-таки поймает ее, ей-богу! Скорее бы уж, а то как бы не пришлось нам с тобой проторчать здесь до того самого утра, когда начнется Страшный суд… Шш! Кто там?
Это восклицание вырвалось у ирландца потому, что Тара соскочила со своей подстилки и с лаем бросилась к двери.
– Фелим! – раздался голос снаружи. – Фелим!
– Вот и хозяин, – пробормотал Фелим, вскакивая со стула и направляясь следом за собакой к выходу.
Глава VI
Крапчатый мустанг
Фелим не ошибся: это был голос его хозяина, Мориса Джеральда.
Выйдя за дверь, слуга увидел приближающегося мустангера. Как и следовало ожидать, он возвращался домой верхом на своей лошади; но теперь гнедой, весь мокрый от пота, казался почти черным, бока и шея у него были взмылены.
Гнедой был не один. На туго натянутом, привязанном к седельной луке лассо он вел за собой товарища – вернее, пленника. Кожаный ремень, туго обхватывавший челюсть пойманного мустанга, придерживался другим, прикрепленным к нему ремнем, который был переброшен через голову на шею, непосредственно за ушами животного.
Это был мустанг совершенно необычайной окраски. Даже среди огромных табунов, пасущихся в прериях, где встречаются лошади самых неожиданных мастей, такая масть была редкой. Лошадь была темно-шоколадного цвета с белыми пятнами, разбросанными так же равномерно, как темные пятна на шкуре ягуара. Оригинальная окраска лошади сочеталась с безупречным сложением. Она была широкогруда, с крутыми боками, стройными тонкими ногами и головой, которая могла бы служить образцом лошадиной красоты; крупная для мустанга, она была гораздо меньше обыкновенной английской лошади, даже меньше гнедого – тоже мустанга, который помог захватить ее в плен.
Красавица лошадь была кобылой; она принадлежала к табуну, который любил пастись у истоков Аламо, где мустангер три раза безуспешно преследовал ее. Только на четвертый раз Морису посчастливилось. Чем вызвано неудержимое желание поймать именно эту лошадь, оставалось тайной мустангера.
Фелим еще ни разу не видел своего хозяина таким довольным – даже когда Морис возвращался с охоты, как это часто бывало, с пятью или шестью пойманными мустангами.
И никогда еще Фелим не видел такой красивой пленницы, как крапчатая кобыла. Ею залюбовался бы и не такой знаток лошадиной красоты, как бывший грум замка Баллах.
– Гип-гип, ура! – закричал Фелим, как только увидел пленницу, и подбросил вверх свою шляпу. – Слава пресвятой деве и святому Патрику[15], мастер Морис поймал наконец крапчатую! Это кобыла, черт возьми! Ну и лошадка!.. Не диво, что вы так гонялись за ней. Ей-богу! У нас на ярмарке в Баллиносло мы могли бы заломить за нее любую цену, и ее бы у нас все равно с руками оторвали. Ну и лошадка!.. Куда же мы ее поставим? В кораль со всеми?
– Нет, там ее могут залягать. Привяжем лучше под навесом. Кастро, как гостеприимный хозяин, уступит ей свое место, а сам проведет ночь под открытым небом. Видел ли ты, Фелим, когда-нибудь такую красавицу… я хотел сказать – такую красивую лошадь?
– Никогда, мастер Морис, никогда в жизни! А я видел много породистых лошадок в Баллибаллахе. У, прелесть, так бы и съел ее! Только у нее такой вид, что она сама, того и гляди, кого-нибудь съест. Вы ее еще совсем не объезжали?
– Нет, Фелим, я займусь ею, когда у меня будет побольше времени. Это надо сделать как следует. Ведь страшно испортить такое совершенство. Я начну объезжать ее, когда отведу в поселок.
– А когда вы туда собираетесь?
– Завтра. Мы должны выехать на заре, чтобы к вечеру добраться до форта.
– Вот это хорошо! Я рад не за себя, а за вас, мастер Морис. Известно ли вам, что у нас виски уже на исходе? Об этом можно судить по тому, как оно в бутыли бултыхается. Эти плуты в форте здорово надувают: они и разбавляют, и недоливают. Галлон английского виски мы пили бы раза в три дольше, чем эту американскую «дрянь», как сами янки ее окрестили.
– Насчет виски не беспокойся, Фелим. Там ведь хватит и на сегодня, и чтобы наполнить наши фляги для завтрашнего путешествия. Не унывай, старый Баллибаллах! Пойдем-ка сперва устроим крапчатую лошадку, а потом у нас будет время поговорить о новом запасе целебного напитка, который, я знаю, ты любишь больше всего на свете.
– И вас, мастер Морис! – добавил Фелим, посмеиваясь.
Мустангер улыбнулся и соскочил с седла.
* * *Крапчатую кобылу поставили под навес, а Кастро привязали к дереву. Фелим стал чистить его по всем правилам, которые приняты в прерии.
Утомленный до изнеможения, мустангер бросился на свою постель из лошадиной шкуры. Ни за одним мустангом ему не приходилось гоняться так долго, как за крапчатой кобылой. Чем была вызвана такая настойчивость, об этом не знал никто на свете – ни Фелим, ни Кастро, его верный конь, – никто, кроме него самого.
Несмотря на то что ему пришлось провести несколько дней в седле, из них три последних – в непрерывной погоне за крапчатой кобылой, несмотря на страшную усталость, мустангер не мог уснуть.
Время от времени он вставал и начинал ходить взад и вперед по хижине, как будто чем-то сильно взволнованный.
Уже несколько ночей он страдал от бессонницы, ворочаясь с боку на бок, так что не только его слуга Фелим, но даже собака Тара стала удивляться поведению хозяина.
Слуга мог бы подумать, что хозяин горит нетерпением поймать крапчатую кобылу, если бы он не знал, что лихорадочное беспокойство его господина началось раньше, чем он узнал о ее существовании.
Только несколько дней спустя после возвращения мустангера из форта крапчатая кобыла впервые попалась ему на глаза, так что это не могло быть причиной перемены его настроения.
Казалось, удачная охота, вместо того чтобы успокоить его, вызвала обратное действие. Так, по крайней мере, думал Фелим. Наконец он решился, пользуясь правом молочного брата, спросить мустангера, что с ним случилось.
Когда тот снова стал ворочаться с боку на бок, раздался голос слуги:
– Мастер Морис, что с вами? Скажите мне, ради бога!
– Ничего, Фелим, ничего. Почему ты меня об этом спрашиваешь?
– Да как же не спросить? Вы же ни на минуту не сомкнули глаз с того самого дня, как в последний раз вернулись из поселка. Что-то отняло там у вас сон. Неужто вы мечтаете об одной из этих мексиканских девушек – «мучаче», как их тут называют? Нет, я этому не поверю. Потомку древнего рода Джеральдов этак не годится.
– Глупости, дружок! Тебе всегда что-нибудь мерещится. Дай-ка лучше мне закусить. Не забывай, что я с утра ничего не ел. Что у тебя найдется в кладовой?
– Признаться, у нас запасы невелики. Ведь за те три дня, что вы ловили этого мустанга, ничего не прибавилось. Есть немного холодной оленины и кукурузного хлеба. Если желаете, я разогрею мяса в горшке.
– Хорошо, я могу подождать.
– А не легче ли вам будет ждать, если вы сначала смочите горло этим снадобьем?