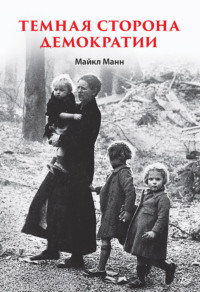
Темная сторона демократии
Бюрократические убийцы встроены в современную бюрократическую машину. Их подчинение носит, скорее, традиционный характер в веберовском смысле и создается институционной рутиной, которая втягивает их в то, что Арендт (Arendt, 1965), как известно, назвала банальностью зла, укорененной в современном обществе. Именно здесь лучше всего применимы результаты экспериментов Милгрэма. Обычные современные люди могут убивать, пишут Бауман (Baumann,1989) и Кац (Katz, 1993). Бартов (Bartov, 1996) согласен с этим и приписывает происхождение этой ловушки «механизированной, рациональной и безличной» машине убийств времен Первой мировой войны.
Таким образом, перед нами большое разнообразие потенциальных убийц – по идеологическим мотивам, из ненависти, ради насилия, из страха, ради карьеры, ради материальной выгоды, дисциплинированных, убийц «за компанию» и бюрократических убийц. Это многообразие подкрепляет мой тезис 8, объясняя, как обычные люди могли принимать участие в кровавых чистках. Некоторые их участники убивали по «идеалистическим», иначе говоря, идеологическим мотивам. Другие просто любили насилие или считали его лучшим способом решения политических проблем. Институции, осуществлявшие убийства, поддерживали дисциплину, дух товарищества, давали возможность сделать карьеру или участвовать в ограблениях, а некоторые из них носили бюрократический характер. Такое большое число участников обязательно включало и совершенно обычных людей. Поскольку мы привели только идеальные типы, следует понимать, что почти у всех исполнителей мотивы были смешанными. И этот список «схватывает» мотивацию в момент убийства. Поскольку малое число исполнителей изначально собиралось идти и убивать (тезис 5), их более ранние мотивы должны были отличаться от более поздних. Таким образом, я прослеживаю карьеры, которые видоизменяют мотивы и осуществляют социализацию в направлении возможности убивать.
Мы не должны также отделять людей от их окружения. Существует соблазн индивидуалистического подхода в этой уникальной сфере человеческого поведения, отчасти из-за огромной важности вопроса о личной вине. Должны ли мы приговаривать и, возможно, казнить определенного человека за действия, которые он совершил лично? Однако мы стремимся к индивидуальному подходу в попытке понять такое поведение. Всякий, кто думал на эти темы, скорее всего, задавался вопросом: «Что делал бы я в таких обстоятельствах, если бы мне приказали убивать мужчин, женщин и детей? Насколько нравственно, насколько смело я вел бы себя?» И тогда мы, наверное, думаем, насколько мы сами трусливы, амбициозны или склонны к конформизму. Тут легко вспоминаются значительно более обыденные случаи, когда мы не смогли помочь человеку в нужде или тому, кто подвергался преследованиям. Такие обычные человеческие слабости, безусловно, имели значение при осуществлении кровавых чисток.
Тем не менее, чтобы ответить на вопрос «Что бы я делал?», мы должны перенестись назад во времени и представить себе, что занимаем сравнимую должность. Профессор вроде меня, помещенный в Германию 1930-х гг., скорее всего, поддерживал бы консервативный национализм и проявлял определенную симпатию к делу нацистов. Студенты находились бы на еще более пронацистских позициях, поскольку нацисты победили на общенациональных студенческих выборах в 1931 г. Если бы я был тогда профессором биологии или медицины, я, наверное, проникся бы идеями научного расизма, перекликающегося с радикальным нацизмом. Будучи в реальности профессором социологии, написавшим книгу о фашизме, я сознаю, что у меня, к сожалению, был предшественник. Профессора Отто Олендорфа академический интерес к фашизму превратил в нациста. Будучи человеком скорее самодовольным, он вначале конфликтовал с нацистским руководством. Но потом он исполнил свой долг, согласившись возглавить одну из айнзац-групп. Его подразделение убило 90 000 человек. Олендорфа казнили в Нюрнберге в 1951 г. Оказавшись в другом социальном контексте, многие из нас могли бы быть на достаточно близком расстоянии от участия в кровавых этнических чистках.
Моя каузальная модель: истоки социальной власти
Для объяснения кровавых этнических чисток нужна всеобъемлющая модель взаимодействия различных форм власти и силы. Я использую модель четырех истоков социальной власти, которая применялась в моих прежних исторических работах (см.: Mann, 1986, 1993). Я рассматриваю этнические чистки как результат действия четырех взаимосвязанных сетей власти, каждая из которых необходима для осуществления этих чисток, но ни одна не может считаться их первопричиной.
Идеологическая власть относится к мобилизации ценностей, норм и ритуалов в человеческих обществах. Я не утверждаю, что идеология ложна, а только то что она выходит за пределы как опыта, так и науки и, таким образом, содержит непроверяемые элементы. Некоторые используют термин «культура» примерно в том же смысле, в каком я использую термин «идеология», хотя я избегаю его как слишком расплывчатого и многозначного. Этнические конфликты сильно идеологизированы. Известное высказывание Бенедикта Андерсона (Anderson, 1983) о том, что нации представляют собой воображаемые сообщества, следует понимать таким образом, что из нашего прямого жизненного опыта не вытекает, что совершенно чужие нам люди могут разделять с нами этническую или национальную идентичность. Такое странное представление создается идеологическими средствами, потому что оно в значительной степени выходит за пределы нашего опыта. Нужна причинно-следственная теория, объясняющая, в каких особых обстоятельствах и с использованием каких механизмов культура/идеология способствует созданию этнической идентичности, замешанной на ненависти. Что такого немцы действительно знали о евреях, из-за чего рассматривали их как угрозу своему коллективному выживанию? Каким образом исполнители чисток переходят к убийствам, преодолевая моральный запрет «не убий»? Каким образом некоторые лидеры и активисты подчиняются ценностнорациональным мотивациям вопреки всем прагматическим соображениям?
Идеологии передаются через коммуникационные сети, некоторые из них располагают большими ресурсами знаний и возможностями убеждения, чем другие. Они мобилизуют общественные движения и средства массовой информации – массовые марши и митинги, печатное слово и электронные средства коммуникации, которые все могут осуществлять власть над людьми. Но люди не всеядны. Они принимают только идеологии, имеющие какой-то смысл в их мире, и активно их переистолковывают. Идеологии, оправдывающие этнические чистки, укоренены в реальных, развивающихся исторических конфликтах, хотя должны конкурировать с альтернативными идеологиями (либеральными, социалистическими и т. д.), обычно также предлагающими правдоподобные объяснения. Я подчеркиваю интенсивный характер их конкуренции в большинстве случаев, по меньшей мере на ранней стадии эскалации. На более позднем этапе контроль над средствами коммуникации может дать бˆольшую идеологическую власть этнонационалистам. Но эта часть процесса требует объяснения.
Экономическая власть тоже имеет значение. Во всех случаях чистки замешаны материальные интересы. Обычно члены этнической группы начинают верить, что у них есть общие экономические интересы, направленные против «чужаков». Согласно моему тезису 2, этничность может перекрывать класс. Классовые чувства смещаются на отношения между этническими группами. Угнетенная группа считает другую имперской эксплуататорской нацией, а себя – нацией эксплуатируемой пролетарской (как хуту в Руанде). Эксплуататоры рассматривают свою имперскую власть как несущую цивилизацию низшим этническим группам. Защиту этой власти от революционной угрозы снизу я называю имперским ревизионизмом. Он очевиден у нацистов, сербов и тутси.
Смещение классовых чувств происходит также в экономиках «этнической ниши», когда меньшинства занимают определенные места в разделении труда – еврейские, индийские или китайские торговцы, ирландские или индийские рабочие. Однако, хотя это может привести к дискриминации и политическому протесту, массовое насилие на этой почве представляет редкость (Gurr, 2000: 229). Подобно языковому вопросу, это вопрос практический, где может быть достигнут компромисс. Как отмечает Чуа (Chua, 2004), по всей видимости, худшие сценарии имеют место, когда классовое недовольство народа может быть правдоподобным образом переключено на группы капиталистов-посредников – таких, как евреи или китайцы. Однако в конечном счете большинство этнических ниш слишком полезно для правящих классов, чтобы поддерживать их уничтожение. Так, Коннор (Connor, 1994: 144164) и Горовиц (Horowitz, 1985: 105–135) утверждают, что экономические интересы редко выступают основной причиной этнического конфликта. Попытки Чуа (Chua, 2004) объяснить геноцид и кровавую чистку в Руанде и Югославии рыночной эксплуатацией в общем-то притянуты за уши.
Но это не так в ситуации, когда рынки ограничены явной монополией, будь то в экономиках, где большую роль играет государство, или при исключительном владении землей. Государство, где доминирует одна этническая группа, может исключать другие этнические группы в том, что касается собственности на землю, получения работы или разрешения на открытие бизнеса. Контроль над государством становится основным способом достижения материального процветания, что заставляет этнонационалистов стремиться к созданию собственного государства. В посткоммунистических экономиках и в развивающихся странах государство может контролировать основные отрасли промышленности и зарубежную помощь и распределять материальные блага в соответствии с этнической принадлежностью. Борьба за государство, представляющее такую ценность, может привести к кровавой чистке среди проигравших. Собственность на землю тоже, по существу, носит характер монополии. В отличие от капитала или труда, земля конечна. Владение землей не дает другим ею пользоваться. Если землей владеет одна этническая группа, это исключает другие. В земледельческих обществах эта ситуация представляет угрозу для жизни. Так, колониальное поселенчество создавало особо кровавые этнические конфликты из-за владения землей. Захват земли без необходимости в труде туземцев часто заканчивался этноцидом или геноцидом. Чистки в колониальных условиях определяются прямым конфликтом за источники экономической власти.
Более прозаические конфликты экономического характера возникают уже в самом процессе кровавой чистки. У жертв отнимают ценные вещи, дома и одежду, когда на яростную этническую ненависть накладывается самая обычная алчность. Однако для этого нужны предварительные условия. Чтобы получить выгоду от ограбления соседей, мы должны быть с военной точки зрения сильнее их. Идеологические и политические санкции также обычно не дают нам грабить соседей. Мы считаем, что это морально неверно, и ожидаем наказания по закону. Вопрос, почему идеологические и моральные ограничения вдруг оказываются неэффективными, требует объяснения. Алчность также не может объяснить, почему в XX в. так широко распространились чистки. Собственность подвергалась насильственному захвату на протяжении всех войн, карательных экспедиций и беспорядков, имевших место в истории. Это историческая константа. В самом деле, захват собственности в ходе чисток обычно носит вторичный характер, редко имеет большое значение при их возникновении и привлекателен главным образом для исполнителей низших уровней в то время, когда чистка уже идет полным ходом.
Если группы идентифицируют себя и свои экономические интересы в этнических терминах, класс может быть вытеснен этничностью. Но для этого нужно, чтобы капиталисты, рабочие, мелкая буржуазия, помещики, крестьяне и другие члены этнической группы считали, что они имеют общие экономические интересы. Убедить их в этом – нелегкая идеологическая задача для этнонационалистов. В Новое время этническое или национальное сознание редко одерживало победу над классовым. Даже в случаях, которые я рассматриваю, националистам приходилось спорить с либералами и социалистами, утверждавшими, что в материальном плане главный конфликт носит классовый или секторальный характер.
Военная власть представляет собой социально организованное, концентрированное насилие, несущее смерть. Она играет решающую роль на последних стадиях в худших случаях этнической чистки. Армии, полицейские силы и нерегулярные негосударственные парамилитарные формирования являются основными носителями военной власти. Я буду рассматривать их финансирование, набор и обучение. Кто имеет доступ к оружию и военной выучке и кто предпочитает насилие как способ решения общественных проблем? Можно ли на насилии сделать карьеру, которая представляла бы форму социализации, связанную с убийством?
В ХХ в. этнические чистки в большинстве случаев происходили во время войн или хаотического перехода от войны к миру (Melson, 1992: гл. 9; Naimark, 2001: 187). Обычные войны могут подчиняться правилам, регулирующим обращение с пленными и гражданскими лицами, однако в правилах есть лакуны. В настоящее время нет четких законов, касающихся бомбежек гражданского населения и психологических пыток, а в прежние времена таких законов не было относительно осады городов и существования за счет сельских жителей. Если война идеологически окрашена, количество общих правил может уменьшиться, и гражданские лица превращаются во врагов. Во время Второй мировой войны на Тихоокеанском фронте имели место злодеяния на расовой почве, направленные против вражеских солдат и гражданского населения. На Восточном фронте жестокости совершались со стороны фашистов и коммунистов. Гражданские войны и войны за независимость, содержащие сильный этнический компонент, представляют опасность для этнических групп, оказавшихся в ловушке за линией фронта. Соблазн проведения кровавой чистки увеличивается, когда ее можно провести без особых военных усилий и страха возмездия (см. мой тезис 4б). В ходе военных кампаний на тактическом уровне может возникать соблазн совершения заранее не планировавшихся жестокостей по отношению к гражданским лицам. Длительная осада может вызвать искушение разграбить город после его захвата. Партизанская война может соблазнить ее участников на убийство гражданских лиц. Армия, имеющая превосходство в фиксированных ресурсах и сталкивающаяся с более мобильным врагом, может нападать на гражданские поселения, чтобы принудить врага к более статичной обороне. Подобную тактику применял генерал Шерман против индейцев Великих равнин. Всё это особенности военной власти, способные привести к кровавым чисткам.
Политическая власть представляет собой централизованное регулирование общественной жизни на определенной территории. Я утверждаю, что к эскалации насилия приводит главным образом столкновение притязаний на определенную территорию (ср. Horowitz, 1985; Wimmer, 2002). Мои тезисы находят подтверждение в количественных данных, собранных в рамках проекта «Меньшинства под угрозой» («Minorities at Risk»). Переменные, лучше всего объясняющие волнения на этнополитической почве в конце 90-х гг., – это наличие политического протеста в течение предшествующих пяти лет, нестабильный, расколотый, но репрессивный режим, концентрация населения на определенной территории, всеохватывающая политическая организация и поддержка из-за рубежа. Все эти факторы, помимо концентрации населения, носят политический характер. Результаты показывают, что экономическая, культурная и политическая дискриминация могут приводить к этническому протесту, но редко приводят к волнениям (Gurr, 2000: 234–236).
Политическая власть по своей сути носит территориальный, принудительный и монополистический характер. Идеология имеет отчасти приватный характер и существенным образом добровольна, экономическая жизнь предполагает рыночный выбор, а военная власть в норме носит институциональный характер и далека от нашей повседневной жизни. Но мы обязаны каждый день подчиняться распоряжениям государства, причем не можем выбирать, какого именно (за исключением случаев эмиграции). Столкновение претензий на суверенитет труднее всего поддается компромиссу и скорее всего приводит к кровавым чисткам. Такие чистки происходят чаще всего, когда группы, обладающие властью внутри обоих сообществ, стремятся создать легитимные соперничающие государства «от имени народа» на одной и той же территории, причем цель выглядит реальной, и более слабая сторона получает помощь извне. Ситуация ухудшается при наличии нестабильных, расколотых партократических государств. В этом состоит основное положение данной книги, указывающее на то, что в этой особенно жестокой сфере человеческого поведения в конечном счете решающую роль играют отношения политической власти.
Глава 2. Этнические чистки в древности и Средневековье
Цель этой главы – показать, что, поскольку в государствах древности и Средневековья этничность обычно перекрывалась классом (тезис 2), этнические чистки происходили редко (тезис 1). Хотя массовые убийства, очевидно, не представляют ничего нового для человеческой истории, в прошлом были крайне редки случаи, когда ставилась цель истребить или изгнать целую группу гражданского населения. Завоевателям обычно нужны были люди, чтобы ими править; целью было подчинение и порабощение, а не уничтожение. Некоторые авторы, однако, с этим не согласны и полагают, что кровавые чистки были так же характерны для досовременных, как и для современных обществ. При этом в качестве примеров приводятся пресловутые ассирийцы, а также такие случаи, как разрушение греческих городов-государств карфагенянами или разрушение Нуманции и Карфагена римлянами (Chalk & Jonassohn, 1990; du Preez, 1994: 4–5; Freeman, 1995; Jonasson, 1998: гл. 17). Смит (Smith, 1997) считает, что «геноцид существовал во все исторические эпохи», хотя он выделяет различные его типы – связанный с завоеваниями, религиозный, колониальный и современный – в зависимости от исторического периода.
Ни одна историческая эпоха не располагает монополией на массовые убийства. Прежние времена, может быть, отличались большей жестокостью, чем нынешние, – например, тогда публичные пытки и казни были в порядке вещей. Мы, современные люди, предпочитаем непрямое, хладнокровное убийство на расстоянии. Мы бомбим с безопасной высоты, но нас отталкивает резня, использующая топоры и мечи (Collins, 1974: 421). В прежние времена обращение с низшими классами общества, включая рядовых солдат, было значительно более жестоким, чем сегодня. Дисциплина была жесткой и образцовой, порка была обычным делом, казни происходили часто. С низшими классами врага обращались еще хуже. Войска питались за счет сельского населения и занимались грабежом и насилием в покоренных городах. Однако, как замечает Смит (Smith, 1997), в войнах прежних времен людей убивали за то, где они находятся, а не за то, кто они. В убийстве нет ничего современного, но убийство с целью очистки территории от определенной группы населения – черта Современности.
Однако даже когда речь идет о чистках, это высказывание требует уточнения. Завоеватели-мигранты, стремящиеся сами заселить землю и использовать ее для земледелия или скотоводства, наделены сильной экономической мотивацией, нацеленной на изгнание туземцев из страны, и могут заняться «дикими» депортациями, которые, в свою очередь, могут перерасти в этноцид, если результатом становится голод. В некоторых случаях дело может дойти до локального геноцида, как это происходило во время некоторых набегов гуннов, монголов и англосаксов. Если набеги совершались скотоводами на районы с оседлым населением, процент погибших местных жителей мог быть высоким, так как скотоводам для хозяйства нужно больше земли, чем земледельцам. Тем не менее большинство массовых движений древности, обычно описываемых как завоевания, носило совсем другой характер.
Индоевропейцы, от языка которых происходят почти все европейские языки, видимо, распространялись на запад не путем завоевания, а благодаря многовековому процессу распространения неолитического земледелия, передового для тех времен. Ренфрю (Renfrew, 1992) приходит к выводу, что ни один человек на протяжении своей жизни, возможно, не переезжал дальше, чем на несколько миль. Большинство предполагаемых завоевателей ранней истории приходило к власти постепенно. Долуханов (Dolukhanov, 1994: 374) пишет, что ближневосточные семиты впервые появились в качестве кочевников-скотоводов, живших рядом с оседлыми земледельцами. Они в значительной степени заимствовали культуру этих земледельцев, проникая в их города в качестве рабочих, наемников и торговцев. Впоследствии они восставали и завоевывали оседлое население. Позже они создавали великие империи – аккадскую, хеттскую и др., – управляя земледельцами, но не изгоняя их.
Большинство наших знаний относится к завоевателям, более близким нам по времени, таким как варвары, покорившие Римскую империю. Вестготы, покорившие долину Гаронны, представляли собой довольно типичный случай. Они составляли лишь одну шестую часть коренного населения долины. Как пишет Браун (Brown 1996: 57–62), их воспринимали не как «пришельцев из космоса», а как хорошо знакомых соседей, которые часто раньше участвовали в защите империи от других завоевателей. Они набирали в свое войско римских изгоев, бедняков, стремившихся улучшить свое положение с помощью насилия. За исключением «редких больших набегов, внушающих ужас» (таких, как набег гуннов Аттилы), которые могли носить в высшей степени разрушительный характер, речь обычно шла о «потраве лугов, вырубке сельскохозяйственных угодий и уничтожении масличных рощ» как способе принуждения к покорности. Сопротивляющихся убивали, женщин насиловали, а голод и болезни довершали дело. «Цель состояла в причинении вреда ровно настолько, сколько необходимо, чтобы местные лидеры подумали, стоит ли им продолжать сопротивление; вместо этого им предлагалось платить дань или открывать ворота новым хозяевам». Готы не хотели устраивать чистки цивилизованных народов, они сами хотели цивилизоваться. Как лаконично сказал остготский король Теодорих, «преуспевающий гот хочет быть похожим на римлянина; только бедный римлянин хотел бы стать готом». Он описывал латеральную ассимиляцию, происходящую между сравнимыми общественными классами двух народов. Готы из высших классов становились римлянами, а некоторые римляне из низших классов превращались в готов. То же самое происходило между монголами и китайцами в периоды относительной слабости Китайской империи. Эти варвары практиковали показательное подавление, за которым следовала не чистка, а частичная классовая ассимиляция. В этом, видимо, состояла самая распространенная схема завоевания варварами более цивилизованных народов. По мере покорения они ассимилировали все больше народов в свою культуру и идентичность. Когда наследники Чингисхана достигли Ближнего Востока, войска «монгольских» завоевателей состояли главным образом из тюркских воинов, подобранных по дороге. Получившееся государственное образование отличалось крайней этнической пестротой – и обратилось в ислам.
Поскольку цель цивилизации состояла (и до сих пор состоит) в том, чтобы избежать тяжелой работы, варварам нужны были люди, которыми они могли бы управлять и которые бы работали и создавали материальный избыток. Если бы они убили этих людей, им пришлось бы тяжело работать самим. В крайнем случае они могли убивать или изгонять целые элиты, причиняющие беспокойство, жителей строптивых городов и некоторые группы местного населения. Истребление жителей города обходится в несколько тысяч человеческих жизней, как в Нуманции и двух греческих городах-государствах, о которых речь шла выше. Их сделали примером в назидание другим. Однако элиты, согласившиеся покориться, были завоевателями ассимилированы. Поскольку большинство империй и варваров-завоевателей покоряло своих близких соседей, те не считали покорителей чужаками. Кровожадность древних завоевателей служила сигналом, побуждающим к сдаче другие города и районы; цель более систематического истребления жителей не ставилась.
В большинстве городов в истории проживало очень разнородное население, и существовала этническая и религиозная напряженность, которая вела к беспорядкам. В худших случаях они перерастали в погромы – необузданные вспышки насилия, направленные на то или иное меньшинство и происходящие как от напряжения внутри сообщества, так и в результате стратегии «разделяй и властвуй», применяемой правителями. Очевидные примеры – обвинение христиан в римском пожаре при Нероне и нападения на евреев в средневековой Европе. В те времена, так же как сейчас, война иногда переходила в этноцид. Разорение больших территорий, сожжение урожая и домов и убийство домашних животных приводят к массовой гибели гражданских лиц, которая считалась приемлемой ценой. Гнев, мстительность, паника, пьянство или паранойя некоторых правителей (очевидные примеры – Аттила, Тимур или Иван Грозный), возможно, приводили к еще бˆольшим ужасам. Крайние случаи насилия оплакивались уже современниками. Смит (Smith, 1997: 232) неправ, утверждая, что такие действия начали вызывать «ощущение морального ужаса» только в Новое время.