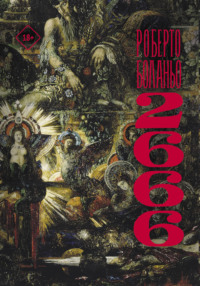
2666
Данный монолог, без преувеличения можно сказать, застал арчимбольдистов врасплох – настолько, что они даже запоздали с реакцией: наглые речи таксист завел на Джеральдин-стрит, а они сумели выдавить из себя слово только на Сейнт-Джордж-роуд. Слова эти были такими: немедленно остановите такси, мы выходим. Или такими: ну-ка давайте останавливайте свою мерзкую машину, мы предпочитаем выйти. Пакистанец это немедленно проделал – встал у обочины и, посмотрев на счетчик, объявил, сколько ему должны пассажиры. Подобное действие, или сцена, или прощание показались Пеллетье и Нортон, все еще парализованным нежданной вербальной атакой, вполне нормальными, но переполнили, и с лихвой, стакан терпения Эспиносы, который, выйдя из машины, открыл переднюю дверь такси и извлек из него водителя. Тот, конечно, не ожидал подобной реакции от так хорошо одетого джентльмена. Еще менее таксист ожидал, что на него изольются дождевым потоком иберийского происхождения пендели, причем сначала пенделей давал только Эспиноса, а затем устал, и эстафету подхватил Пеллетье, несмотря на крики Нортон, мол, не надо, прекратите, несмотря на слова Нортон, мол, насилием дéла не решишь, что теперь этот битый пакистанец, напротив, будет только больше ненавидеть англичан, – вот только на Пеллетье это не произвело ни малейшего впечатления, потому что он-то англичанином не был, а Эспиноса – тем более не был; впрочем, пенделям в их исполнении аккомпанировали ругательства на английском, и плевать им обоим было, что азиат уже давно лежит на земле, свернувшись в позе эмбриона, – н-на тебе раз, н-на тебе два, засунь себе в жопу свой ислам, там ему самое место, а это тебе за Салмана Рушди (с другой стороны, оба они считали его не самым лучшим писателем, но из песни слова не выкинешь), а это тебе от парижских феминисток (да хватит уже, мать вашу, орала Нортон), это от феминисток Нью-Йорка (да вы же его так убьете, орала Нортон), это лично от призрака Валери Соланас, сучий ты сын, и так они продолжали и продолжали, а потом остановились и увидели, что он без сознания, а из всех отверстий головы, исключая глаза, у него течет кровь.
Они прекратили пинать таксиста, и на несколько секунд на них снизошло самое странное в их жизни спокойствие. Странное – словно бы в конце концов они сумели объединиться в menage a trois, о котором так много мечтали.
Пеллетье чувствовал себя так, будто кончил. Эспиноса, за исключением некоторых различий и нюансов, чувствовал то же самое. Нортон смотрела на них, но в такой темноте ничего не видела, и она, похоже, испытала множественный оргазм. По Сейнт-Джордж-роуд время от времени проезжали машины, но заметить их, даже близко проехав, было невозможно. В небе – ни звезды. Ночь же тем не менее стояла ясная: все просматривалось так отчетливо, все очертания самых малых предметов, словно бы ангел одарил их очками ночного видения. Кожа ощущалась чистой и нежной на ощупь, хотя все трое обильно потели. В какой-то момент Эспиноса и Пеллетье подумали, что убили пакистанца. Нортон явно пришло на ум то же самое, потому что она наклонилась над таксистом и пощупала ему пульс. Подойти, присесть на корточки – все это причиняло сильнейшую боль, словно бы ей вырвали из суставов все кости ног.
С Гарден-роу вышла группка людей. Они пели. Смеялись. Трое мужчин и две женщины. Не трогаясь с места, Эспиноса, Пеллетье и Нортон развернули головы в том направлении и замерли в ожидании. Группка людей двинулась в их сторону.
– Такси, – пробормотал Пеллетье, – они к такси идут.
И только тут они заметили, что внутри кабины горит свет.
– Уходим, – сказал Эспиноса.
Пеллетье взял Нортон за плечи и помог ей подняться. Эспиноса сел за руль и торопил их. Пеллетье затолкал Нортон на заднее сиденье, а потом залез туда сам. Люди с Гарден-роу шли прямо к углу, где лежал таксист.
– Он живой, дышит, – сказала Нортон.
Эспиноса завел машину, и они уехали. На другом берегу Темзы, на улочке рядом с Олд-Мэрилебоун, оставили такси и дальше пошли пешком. Хотели поговорить с Нортон, объяснить ей, что случилось, но она даже до дома себя довести не разрешила.
На следующий день за обильным завтраком в гостинице они перечитали все газеты в поисках новости о пакистанском таксисте – но нет, ничего такого не было. После завтрака они пошли за желтой прессой. Там тоже ничего не было.
Они позвонили Нортон, которая, похоже, уже немного отошла и не так сильно на них злилась. Они заверили ее, что надо срочно встретиться во второй половине дня. Что им нужно сказать ей кое-что важное. Нортон ответила, что она тоже хочет сказать нечто важное. Чтобы убить время, они решили прогуляться. Несколько минут постояли у Миддлсекского госпиталя, созерцая въезжавшие и выезжавшие машины скорой помощи, в них каждый пациент казался им пакистанцем, которого они немножко поколотили, но потом это им наскучило, и они пошли, частично совладав с совестью и ее упреками, гулять по Чаринг-кросс к Стрэнду. Естественно, они поделились секретами. Взаимно, так сказать, открыли сердца. Обоих больше всего беспокоил вопрос с полицией: а ну как их уже ищут? И скоро поймают!
– Перед тем как выйти из такси, – признался Эспиноса, – я стер свои отпечатки пальцев. Платком.
– Да знаю я, – откликнулся Пеллетье, – я на тебя посмотрел и то же самое сделал. Со своими отпечатками и Лизиными.
Они снова прошлись, на этот раз особо тщательно, по фактам, которые и привели их – без возможности что-либо изменить – к драке с таксистом. Притчард. Вне сомнений. И Горгона, смертная, ни в чем не виноватая Медуза, отделенная по природе от своих бессмертных сестер. И угроза – скрытая или не такая уж и скрытая. И нервы. И оскорбление, которое им нанес этот невежественный чурбан. Вот бы радио послушать – так они думали – вдруг там что-то передают про их дело. Поговорили и об ощущениях, которые испытывали, пока пинали скорчившееся на земле тело. Как во сне все было. И еще – сексуальное возбуждение. Неужели я хочу оттрахать этого несчастного? Да ни за что. Скорее… словно бы… словно бы они сами себя оттрахали. Словно бы сами себя расцарапывали. Длинными ногтями и безрезультатно, оставаясь с пустыми руками. Хотя, если у человека ногти длинные, это не обязательно значит, что у него пустые руки. Они, словно бы в странном сне, расцарапывали и расцарапывали кожу, раздирая ткани, вены и внутренние органы. Чего они искали? Сами не знали. А в данном положении это их и подавно не интересовало.
Вечером они увиделись с Нортон и высказали ей всё о Притчарде – что знали и чего боялись. И еще о Горгоне, о смерти Горгоны. О женщине, которая беззастенчиво использует других. Она позволила им говорить, пока у них не кончились слова. Потом их успокоила. Притчард не способен и муху обидеть, сказала она. Они разом подумали об Энтони Перкинсе, который всех уверял в своей безобидности, а потом случилось то, что случилось, но предпочли не спорить и согласились – правда, изрядно сомневаясь – с аргументами. Потом Нортон села и сказала: а вот то, что случилось вчера вечером, оно нуждается в объяснении.
Чтобы отвлечь ее внимание от их бесспорной вины, они поинтересовались, не слыхать ли чего-нибудь об этом пакистанце. Нортон сказала – да, слыхать. На местном канале телевидения прошла новость. Люди, возможно те самые, что у них на глазах вышли с Гарден-роу, нашли тело таксиста и вызвали полицию. Четыре сломанных ребра, сотрясение мозга, разбитый нос и выбиты все зубы на верхней челюсти. Сейчас он в больнице.
– Моя вина, – вздохнул Эспиноса. – Я психанул из-за этих оскорблений.
– Давайте некоторое время не будем встречаться, – сказала Нортон. – Мне нужно все обдумать.
Пеллетье согласился, но Эспиноса все еще винил себя: нет, что с ним Нортон не будет встречаться, – это справедливо, он согласен, но вот Пеллетье – с ним-то почему не видеться?
– Ну хватит уже глупостей, – тихо сказал Пеллетье, и Эспиноса только тогда понял, что действительно порет чушь.
Тем же вечером они вернулись каждый к себе домой.
По приезде в Мадрид Эспиноса перенес небольшой нервный срыв. Он начал плакать в такси, которое везло его домой, – тихонько, закрывая ладонью лицо, но таксист понял, что он плачет, и спросил, всё ли у него в порядке и как самочувствие.
– Всё в порядке, – ответил Эспиноса, – просто я разнервничался.
– Вы местный? – поинтересовался таксист.
– Да, – сказал Эспиноса, – я мадридец.
Некоторое время оба молчали. Потом таксист снова атаковал его вопросом: интересуется ли он футболом? Эспиноса сказал, что нет, никогда не интересовался. Ни футболом, ни каким-либо другим спортом. И, чтобы не обрывать грубым образом беседу, добавил: «Прошлым вечером я едва не убил человека».
– Ничего себе, – сказал таксист.
– Ну вот да, – вздохнул Эспиноса. – Едва не убил.
– А за что? – удивился таксист.
– Да вот нашло на меня что-то… – пояснил Эспиноса.
– За границей? – спросил таксист.
– Да! – Тут Эспиноса впервые рассмеялся. – Не здесь, не здесь, и, кстати, у того мужика профессия была редкая.
А вот у Пеллетье ни нервного срыва не было, ни с таксистом, который довез его до дома, он не разговаривал. Добравшись до квартиры, он принял душ и приготовил себе немного итальянской пасты с оливковым маслом и сыром. Потом просмотрел электронную почту, ответил на несколько писем и залег в постель с романом молодого французского автора – не шедевром, но занимательным – и литературоведческим журналом. Он быстро уснул, и приснилось ему нечто в высшей степени странное: что он женат на Нортон, а живут они в просторном доме у прибрежных скал, откуда открывался вид на пляж и людей в купальниках, которые загорали и плавали, не слишком, впрочем, удаляясь от берега.
Замелькали дни. Из своего окна он непрестанно смотрел, как садится и восходит солнце. Иногда подходила и что-то говорила Нортон – но никогда не переступала порога комнаты. Люди так и лежали на пляже. Иногда ему казалось, что ночью они вовсе не расходятся по домам – или же, собравшись, возвращаются в темноте перед рассветом длинной такой процессией. А еще, бывало, он закрывал глаза и облетал пляж как чайка, и тогда мог разглядеть купальщиков вблизи. Попадались самые разные люди, правда, в основном взрослые – тридцатилетние, сорокалетние, пятидесятилетние – и все они сосредоточенно занимались какой-то ерундой: обмазывались маслом, ели сэндвичи, из вежливости прислушивались к болтовне друга, родственника или соседа по пляжу. Тем не менее они иногда, стараясь не привлекать внимания, вставали и вперялись взглядом в горизонт – не долее чем на секунду, а горизонт оставался таким же – безмятежно ясным, безоблачным, прозрачно-голубым.
Когда Пеллетье открывал глаза, то задумывался над поведением купальщиков. Очевидно, они чего-то ждали, но не так чтобы с огромным нетерпением. Просто время от времени принимали сосредоточенный вид, и глаза их задерживались на одну-две секунды на горизонте, а потом снова отдавали себя течению времени на этом пляже, и на лицах их не отражались ни сомнения, ни разочарования. Полностью погрузившись в созерцание купальщиков, Пеллетье забывал о Нортон, будучи, похоже, уверенным в ее присутствии, каковое присутствие обнаруживал шум, время от времени доносившийся из внутренних комнат, где или не было окон, или же они выходили на холмы и поля, а не на море и на переполненный пляж. Спал Пеллетье – это он обнаружил, основательно углубившись в сон, – в кресле рядом с рабочим столом и окном. Причем спал явно мало, и, даже когда солнце садилось, он пытался как можно дольше бодрствовать, вперившись глазами в пляж, превратившийся в черный холст или глубокий колодец; он пытался выискать хоть какой-нибудь свет – очерк фонаря или вьющееся пламя костра. Чувство времени изменяло ему. Еще он смутно припоминал сцену, которая то ли вгоняла в краску стыда, то ли воодушевляла – всё в равных частях. На столе лежали бумаги – рукописи Арчимбольди, именно рукописи, он их и купил в таком качестве, хотя, просматривая теперь, сознавал, что написаны они на французском, а не на немецком. Рядом стоял телефон, который никогда не звонил. С каждым днем становилось все жарче.
Однажды утром, около полудня, он увидел, как купальщики отрываются от своих обычных занятий и застывают, глядя, все разом, на горизонт. Там ничего не происходило. Но тогда, в первый раз, купальщики начали разворачиваться и уходить с пляжа. Одни проскальзывали по грунтовой дороге между двумя холмами, другие уходили прямо в поле, цепляясь за кусты и камни. Немногие терялись из виду где-то по направлению к ущелью, и Пеллетье не видел их, но знал, что они начинают долгое восхождение к вершине. На пляже уже не было людей, только в песчаной впадине лежал, чуть высовываясь, какой-то сверток, темное пятно на желтом фоне. Несколько мгновений Пеллетье взвешивал в уме необходимость спуститься к пляжу и закопать, со всеми приличествующими случаю предосторожностями, этот сверток на дне дырки. Но только мысли его касались долгого пути, который пришлось бы проделать, чтобы дойти до пляжа, он покрывался потом и потел все сильнее и сильнее, словно где-то у него открылся краник, который никак не получалось прикрутить.
И тогда он замечал в море какое-то дрожание, словно бы вода тоже вспотела, в смысле, вскипела. Это едва заметное дрожание распространялось по волнам и в конце концов достигало волн, что катились к пляжу, дабы разбиться и умереть. И тогда Пеллетье чувствовал головокружение и слышал жужжание пчел, что доносилось откуда-то снаружи. А когда жужжание стихало, устанавливалась тишина, что была страшнее звука, и тишина эта затапливала дом и окрестности. Тогда Пеллетье начинал кричать, он звал Нортон, но никто не отзывался на его крики, словно бы призывы о помощи поглотило молчание. Тогда Пеллетье начинал плакать, и у него на глазах из металлически блестящего моря вырастала разбитая статуя. Бесформенный кусок камня, огромный, источенный временем и водой, но даже сейчас там можно было абсолютно ясно разглядеть руку, запястье, предплечье. И статуя эта вздымалась из моря и нависала над пляжем, и была она ужасна и одновременно красива.
В течение нескольких дней Пеллетье и Эспиноса продемонстрировали, каждый со своей стороны, муки раскаяния после истории с пакистанским таксистом, который вращался вокруг их растревоженной совести подобно призраку или электрогенератору.
Эспиноса задавался вопросом: а не открывает ли подобное поведение его истинную сущность – ультраправого ксенофоба, склонного к насилию? А Пеллетье, напротив, подкармливал уязвленную совесть такими соображениями: он ведь пинал пакистанца, когда тот уже лежал на земле, а это ведь крайне неспортивно… Еще он спрашивал себя: а какая в том была необходимость? Таксист уже получил заслуженное воздаяние, разве была надобность в том, чтобы прибавить к насилию насилие?
Однажды ночью они созвонились и долго беседовали. Изложили друг другу свои дурацкие соображения. Начали утешать друг друга. Но уже через несколько минут опять сожалели о случившемся, хотя в глубине души и были уверены в том, что настоящий ультраправый и мизогин – пакистанец, что склонность к насилию выказал – пакистанец, что в этом случае недостаток воспитания и отсутствие толерантности выказал – пакистанец, что все это навлек на себя – пакистанец, и так тысячу раз по кругу. В такие моменты, скажем честно, если бы таксист вдруг материализовался рядом с ними, они бы его точно убили.
В течение долгого времени они забыли и не вспоминали больше свои еженедельные поездки в Лондон. Забыли о Притчарде и Горгоне. Забыли об Арчимбольди, слава которого все росла, а они этого не видели. Забыли о своих работах, те писались рутинно и с отвращением, да и писали эти работы даже не они, а их ученики или преподаватели на временной ставке, заразившиеся любовью к Арчимбольди, что подкреплялась обещаниями постоянной ставки или повышения зарплаты.
Приехав на очередную конференцию, оба они – пока Поль читал прекрасную лекцию об Арчимбольди и теме стыда в немецкой послевоенной литературе – отправились в один берлинский бордель и переспали с двумя очень высокими длинноногими блондинками. Выйдя оттуда около полуночи, они почувствовали себя настолько довольными, что принялись распевать как малые дети под библейски сильным ливнем. Секс со шлюхами был чем-то радикально новым в их жизни, и они несколько раз закрепили этот опыт в разных европейских городах, и в конце концов он стал их повседневным занятием в городах, где они проживали. Другие, похоже, спали с аспирантками. Они же, боясь влюбиться или, наоборот, разлюбить Нортон, выбрали для себя шлюх.
В Париже Пеллетье находил их в Интернете, всякий раз с прекрасными результатами. В Мадриде Эспиноса отыскивал их в колонке объявлений с содержанием «предлагаем расслабиться…» и так далее в «Эль-Паис», которая хотя бы в этом отношении предоставляла проверенную информацию практического толка – в отличие от своего посвященного культуре приложения, в котором практически ничего не писали про Арчимбольди и где ломали копья герои-португальцы. То же самое можно было сказать и о культурном приложении «АБС».
– Эх, – жаловался Эспиноса в разговорах с Пеллетье, возможно, в поисках хоть какого-то утешения, – всегда-то мы, испанцы, были провинциалами…
– Это правда, – отвечал Пеллетье после двухсекундной паузы на то, чтобы обдумать ответ.
Авантюры со шлюхами, с другой стороны, не остались без последствий.
Пеллетье познакомился с девушкой по имени Ванесса. Та была замужем, и у нее был сын. Иногда она не виделась с ними целыми неделями. Говорила, муж ее просто святой. Были у него и недостатки – например, он был арабом, конкретнее марокканцем, кое в чем слабоватым, но в общем нормальным чуваком, который практически никогда не сердился, а если и сердился, то не впадал, как большинство мужчин, в гнев и не сыпал оскорблениями, а приобретал вид грустный и меланхолический, словно бы пасуя перед кошмарами слишком большого и непонятно устроенного мира. Пеллетье спросил: а твой араб в курсе, что ты шлюха? Ванесса сказала, что да, в курсе, что он это знал, но ему все равно, так как он верил в свободу личности.
– Тогда он твой сутенер, – предположил Пеллетье.
На это Ванесса ответила, что да, вполне возможно, если присмотреться, то да, он ее сутенер, но не такой, как остальные сутенеры, которые требуют от женщин слишком многого. Марокканец же ничего от нее не требовал. Временами, сказала Ванесса, она тоже впадала в обычную свою лень, перманентную слабость и неохоту, и тогда все трое испытывали трудности с деньгами. В такие дни муж довольствовался тем, что у них было, и пытался – с редким успехом – найти себе поденный заработок, который позволил бы им оставаться на плаву. Он – мусульманин и иногда молился лицом к Мекке, но тут было все ясно: он не такой, как остальные мусульмане. Он говорил, что Аллах разрешает все или почти все. А вот если кто сознательно причинит вред ребенку – это нет, это не дозволено. Или вот еще издеваться над ребенком, убить ребенка, бросить ребенка на верную смерть – нет, это запрещено. Все остальное – вещи относительные и в конечном счете – дозволенные.
Однажды, рассказала Ванесса Пеллетье, они поехали в Испанию. Она, ее сын и марокканец. В Барселоне они встретились с младшим братом марокканца, который жил с другой француженкой, толстой и высокой. Марокканец сказал Ванессе, что они музыканты, но на самом деле профессиональные нищие. Никогда больше она не видела марокканца таким счастливым. Тот постоянно смеялся, рассказывал смешные истории и без устали бродил по барселонским районам, доходя до пригородов или забираясь в горы, с которых открывался вид на весь город и великолепие Средиземного моря. Никогда, говорила Ванесса, никогда она не видела человека с такой жизненной силой. Детей-живчиков – да, видела. Немногих, но некоторых встречала. Но среди взрослых – нет, никогда.
Когда Пеллетье спросил Ванессу, от марокканца ли ее сын, та ответила нет, и что-то в тоне ее ответа дало понять, что вопрос показался ей обидным и ранящим, словно бы принижающим ее сына. Тот же был белым, практически светловолосым, и ему исполнилось шесть – если она не ошибалась – лет, когда Ванесса познакомилась с марокканцем. Тогда у меня в жизни был жуткий период, сказала она, не вдаваясь в детали. Появление марокканца трудно было считать Божией милостью. Однако, когда они встретились, у нее, конечно, были трудные времена, но он в буквальном смысле этого слова умирал от голода.
Пеллетье Ванесса понравилась, и они встречались несколько раз. Была она молодая и высокая, с прямым, словно греческим, носом, с надменным взглядом и стальным блеском в глазах. Ее презрение к культуре, в особенности книжной, отдавало, как ни странно, лицейским снобизмом, чем-то, где совпадали невинность и элегантность, чем-то, где концентрировалась, как считал Пеллетье, непорочность в такой степени, что Ванесса могла себе позволить самые дикие высказывания и никто бы этого не вменил ей в вину. Однажды вечером они закончили заниматься любовью, и Пеллетье поднялся, как был, обнаженным с кровати и поискал среди книг роман Арчимбольди. Посомневавшись немного, решился на «Кожаную маску», думая, что Ванесса, если все сложится хорошо, могла бы прочитать ее как роман ужасов, что мрачные страницы книги могли бы привлечь ее. Поначалу она удивилась подарку, а потом расчувствовалась – обычно клиенты дарили ей одежду, обувь или нижнее белье. Она на самом деле очень обрадовалась книге, особенно после того, как Пеллетье объяснил ей, кто такой Арчимбольди и какую роль этот немецкий писатель играет в его жизни.
– Это как если бы ты подарил мне что-то свое, – проговорила Ванесса.
Услышав это, Пеллетье немного смутился: да, с одной стороны, это действительно так: Арчимбольди – это нечто его, его собственное, ибо он, вместе с несколькими другими людьми, предложил новое прочтение творчества немца, прочтение, которое проживет долго, прочтение, такое же амбициозное, как и поэтика Арчимбольди, которое будет теперь сопровождать творчество Арчимбольди долгое время, до тех пор, пока не исчерпает себя или исчерпает себя (но в это Пеллетье не верил) поэтика Арчимбольди, ее способность вызывать эмоции и прозрения; с другой стороны, все было не так: временами, особенно после того как они с Эспиносой перестали летать в Лондон и встречаться с Нортон, творчество Арчимбольди, то есть его романы и рассказы, виделось ему бесформенной и таинственной вербальной массой, массой, совершенно ему чуждой, чем-то, что появлялось и исчезало каким-то непредсказуемым образом, под непонятными предлогами, виделось ему ложной дверью, фальшивым именем убийцы, гостиничной ванной, полной амниотической жидкости, в которой он, Жан-Клод Пеллетье, сведет счеты с жизнью – а почему? Совершенно бесплатно, немного смущенно – словом, почему? Да потому, что – почему бы и нет?
Как он и ожидал, Ванесса не сказала, понравилась ли ей книга. Однажды утром он проводил ее до дома. Она жила в рабочем районе, и иммигрантов там было немало. Они пришли к ней домой, мальчик смотрел телевизор, и Ванесса принялась ругать его: почему, мол, в школу не пошел? Мальчик сказал, у него что-то не то с желудком, и Ванесса тут же приготовила ему травяной отвар. Пеллетье смотрел, как она ходит по кухне. Ванесса излучала колоссальную энергию, девяносто процентов которой уходило в ненужные движения. В квартире царил ужасающий беспорядок – частично из-за сына, частично из-за марокканца, но большею частью из-за самой Ванессы.
Через некоторое время доносившийся из кухни шум (падающие на пол ложки, отправившийся туда же стакан, крики в никуда и безадресные вопросы типа где, черт побери, эта трава для отвара), привлек марокканца. Их друг другу не представили, но они пожали друг другу руки. Муж оказался низеньким и худеньким. Вскоре сын Ванессы станет выше и крупней его. Он носил усы (весьма густые) и постепенно лысел. Поздоровавшись с Пеллетье, который еще толком не проснулся, он уселся на диван и стал смотреть мультфильмы вместе с мальчиком. Когда Ванесса вернулась из кухни, Пеллетье сказал, что ему пора.
– Нет проблем, – бросила она.
Ответ ее показался Пеллетье несколько агрессивным, но затем он припомнил, что Ванесса всегда такая. Мальчик попробовал отвар и сказал, что надо положить сахар, а потом даже не притронулся к исходящей паром чашке, в которой плавали весьма странные и подозрительные, на взгляд Пеллетье, листья.
Этим утром в университете он часто отключался – все думал о Ванессе. Они снова встретились, но в постель не легли (хотя он заплатил ей за секс) и проболтали несколько часов. Прежде чем уснуть, Пеллетье успел сделать несколько выводов: Ванесса была прекрасно подготовлена как в аспекте душевном, так и физическом, к жизни в Средние века. Для нее понятие «современная жизнь» не существовало. Она верила в то, что видела своими глазами, а не в то, что сказали СМИ. Она ничего не принимала на слово и была храброй, хотя, парадоксальным образом, из-за этой храбрости почему-то полагалась, к примеру, на официантов, кондукторов поездов, коллег в трудных ситуациях – и эти люди практически всегда предавали или обманывали ее доверие. Подобные случаи приводили ее в бешенство, и она становилась чудовищно, невообразимо агрессивной. Еще она была злопамятна и хвалилась тем, что всегда говорит все в лицо без обиняков. Еще она считала себя свободной женщиной, и на все у нее находился ответ. То, что она не понимала, ее и не интересовало. Она не думала о будущем, даже о будущем собственного сына, а жила настоящим, которое у нее длилось вечно. Она была красива, но красивой себя не считала. Больше половины ее друзей были иммигрантами из Северной Африки, но она считала иммиграцию опасной для Франции, хотя так и не проголосовала за Ле Пена.

