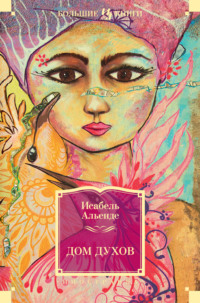
Дом духов

Исабель Альенде
Дом духов
Посвящается моей матери, бабушке и другим удивительным женщинам – героиням этой истории.
И. А.Isabel Allende
LA CASA DE LOS ESPÍRITUS
Copyright © Isabel Allende, 1982
All rights reserved
Перевод с испанского Сусанны Николаевой
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа„Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство ИНОСТРАНКА®
Глава 1
Роза, красавица
Баррабас появился в доме, приплыв по морю», – написала девочка Клара изящным почерком. В то время у нее была привычка записывать лишь самое важное, но потом, когда она перестала говорить, она заполняла целые страницы всякими пустяками, не подозревая, что спустя пятьдесят лет ее тетради разбудят мою память о прошлом и помогут пережить мне собственные страхи. Баррабас появился на Страстной четверг. Он сидел в ужасной клетке, весь в собственных нечистотах, с испуганным взглядом несчастного, беззащитного пленника, но и тогда в нем угадывался – по благородной, королевской посадке головы и размерам крепкого костяка – легендарный исполин, каким пес стал впоследствии. Тот осенний день был тоскливым и ничем не предвещал событий, о которых писала Клара и которые произошли во время утренней мессы в приходе Святого Себастьяна, куда она отправилась вместе с семьей. В знак траура святые были укрыты темно-лиловыми тканями. Богомолки ежегодно вынимали их из шкафов ризницы и вытряхивали из них пыль. Под мрачными покрывалами сонм святых казался просто нагромождением вещей, словно ожидающих переезда, и даже свечи, ладан и стоны органа не могли сгладить это гнетущее впечатление. Темные силуэты угрожающе возвышались вместо привычных скульптур святых в благородных одеждах, украшенных рубинами и изумрудами из стекла, на чьих одинаковых лицах будто застыли следы насморка. Единственным, кого не задрапировали траурным покрывалом, был сам покровитель церкви – святой Себастьян. Зрелище его согнувшегося в непристойной позе тела, простреленного полудюжиной стрел и истекающего кровью и слезами, открывали взору верующих на Страстной неделе. Его раны, удивительно свежие благодаря кисти падре Рестрепо, вызывали у Клары дрожь отвращения.
Это была долгая неделя покаяния и поста, когда не играли в карты, не предавались сладости музыки, влекущей к неге и забытью. Во всем ощущались величайшая грусть и целомудрие, хоть именно в эти дни каверзы дьявола особенно настойчиво смущали грешную плоть католиков. В пост ели слоеное тесто, вкусные кушанья из овощей, воздушные омлеты и привезенные из деревень огромные сыры. Прихожане вспоминали о страданиях Христа, стараясь не соблазниться даже самым маленьким кусочком мяса или рыбы из страха перед отлучением от Церкви. Об этом неустанно напоминал падре Рестрепо, и никто еще не посмел его ослушаться. У Божьего слуги был длинный перст указующий, дабы всенародно отмечать им грешников, и язык, натренированный в пробуждении приличествующих моменту чувств.
– Ты – вор, укравший церковные деньги! – кричал он с амвона, показывая на кабальеро, который смущенно закрывал лицо широким воротником. – А ты – бесстыдница, проституирующая своим телом на набережных! – указывал он на увечную донью Эстер Труэбу, почитающую Святую Деву кармелитского ордена. Донья Эстер удивленно поднимала глаза, не зная, что значит самое слово и где находятся эти набережные. – Покайтесь, грешники, грязная падаль, недостойные жертв Господа нашего! Поститесь! Кайтесь!
Падре Рестрепо был знаменит своим безудержным красноречием, а также пристрастием к истязанию плоти, чему, однако, противились вышестоящие власти. Верующие покорно следовали за падре из прихода в приход. Они покрывались испариной, слушая описание мучений грешников в аду, вечного огня и крюков, на которые подвешивались мужские тела. С ужасом внимали рассказам об отвратительных пресмыкающихся, что вползали в отверстия на телах женщин, и о прочих пытках, упоминаемых им в каждой проповеди, чтобы посеять страх перед Господом. На чистом галисийском наречии священник, чья миссия в этом мире заключалась в том, чтобы потрясти сознание нерадивых прихожан, описывал до мельчайших интимных подробностей самого Сатану.
Северо дель Валье был атеистом и масоном, но политические амбиции не позволяли ему пропускать публичные мессы, совершавшиеся по воскресеньям и праздничным дням. Его супруга Нивея предпочитала беседовать с Богом без посредников. Она совершенно не доверяла сутанам, испытывала тоску при описании Небес, чистилища и ада, однако поддерживала своего мужа в его честолюбивых парламентских замыслах в надежде на то, что, если тот займет место в конгрессе, она сможет добиться для женщин права голосовать. За это она боролась вот уже десять лет, и даже ее следующие одна за другой беременности не смогли лишить ее бодрости духа.
В этот Страстной четверг падре Рестрепо довел слушателей своими апокалипсическими картинами до предела возможного, и Нивея почувствовала тошноту. Она подумала, не забеременела ли снова. Она родила уже пятнадцать детей, из которых одиннадцать были живы, и полагала, что уже достигла возраста благоразумия: ее младшей дочери Кларе исполнилось десять лет. Она считала, что наконец взяла верх над силой своей удивительной плодовитости. Донна Нивея приписала свое недомогание тому моменту в проповеди падре Рестрепо, когда он указал на нее, заговорив о фарисеях. Те, мол, намереваются узаконить гражданский брак и незаконнорожденных детей, нанося вред семьям, родине, собственности и Церкви. Они предоставляют женщинам равные права с мужчинами, бросая вызов Божескому закону, который в этом пункте является весьма определенным. Нивея и Северо занимали со своими детьми весь третий ряд скамей. Клара сидела рядом с матерью, которая сжимала в нетерпении ее руку, если речь священника слишком долго задерживалась на плотских грехах, потому как знала, что это может привести малышку к ошибочным представлениям, далеким от действительности. Клара была очень развитой девочкой, она задавала вопросы, на которые никто не умел отвечать. Ее воображение было безграничным, что наследовали все женщины их семьи по материнской линии.
В церкви становилось все жарче, и резкий запах, исходящий от свечей, ладана и пестрой толпы, совсем утомил Нивею. Ей хотелось, чтобы церемония поскорее закончилась и можно было вернуться в их прохладный дом, посидеть в галерее папоротников, выпить кружку оршада, который Нянюшка приготовляла в праздничные дни. Она посмотрела на детей: младшие очень устали, сидели, застыв, в своих воскресных платьях, старшие слушали рассеянно. Она перевела взгляд на Розу, старшую из ныне здравствующих ее детей, и, как всегда, удивилась. Ее поразительная красота вызывала смятение даже у матери; казалось, она создана из какого-то другого материала, отличного от человеческой природы. Нивея знала, что девочка не принадлежит этому миру, еще до того, как Роза родилась, ведь она видела ее в своих снах. Поэтому ее не удивил вскрик акушерки, когда та окинула взглядом девочку. Роза оказалась белой, гладкой, без морщин, словно фарфоровая кукла, с зелеными волосами и желтыми глазами. Самое прекрасное существо, когда-либо родившееся на земле со времен первородного греха, как воскликнула акушерка, крестясь. При первом же омовении Нянюшка сполоснула девочке волосы настоем мансанильи, который обладал свойством смягчать цвет волос, придавая им оттенок старой бронзы, а потом стала выносить ее на солнце, чтобы закалить прозрачную кожу. Эти ухищрения оказались напрасными: очень скоро разнесся слух, что в семье дель Валье родился ангел. Нивея ждала, что, пока девочка будет расти, откроются какие-либо несовершенства, но ничего подобного не случилось. К восемнадцати годам Роза не пополнела, на лице не выступили угри, а ее грация, дарованная не иначе как морской стихией, стала еще прекраснее. Цвет ее кожи с легким голубоватым оттенком, цвет волос, неторопливость движений, молчаливость выдавали в ней жителя вод. Чем-то она напоминала рыб, и, будь у нее вместо ног чешуйчатый хвост, она явно бы стала сиреной. Как бы то ни было, девушка вела почти обычную жизнь, у нее даже был жених. В один прекрасный день она выйдет замуж, и тогда ответственность за ее красоту перейдет в другие руки… Роза наклонила голову, луч солнца пробился сквозь готические витражи церкви, в короне света обозначился ее профиль. Некоторые повернулись посмотреть на нее и зашептались, как это часто случалось. Роза ни на что не обращала внимания, она не была тщеславной, а в тот день она словно отсутствовала более чем обычно. Она придумывала для вышивки на своей скатерти невиданных созданий – полуптиц-полузверей, покрытых перьями всех цветов радуги, с рогами, копытами, таких толстых и с такими короткими крыльями, что это явно противоречило законам природы.
О своем женихе, Эстебане Труэбе, она вспоминала изредка, не потому что не любила, а просто по своей забывчивости, да еще оттого, что два года разлуки – немалый срок. Он работал на шахтах севера. Регулярно писал ей, и Роза иногда отвечала, посылая переписанные стихи и выполненные тушью на пергаментной бумаге картинки с цветами. Благодаря этой переписке, в которую регулярно вмешивалась Нивея, она узнала об опасностях, подстерегающих Эстебана на шахтах, о постоянной угрозе разорения, когда все надежды возлагаешь на ускользающую золотую жилу, и просишь кредиты, и веришь в счастливую судьбу, что поможет тебе нажить состояние, вернуться и повести Розу к алтарю, и стать самым счастливым человеком в мире, как он всегда приписывал в конце каждого письма. Роза тем не менее не спешила выйти замуж, почти забыла тот единственный поцелуй, которым они обменялись при прощании, и не могла вспомнить, какого цвета глаза у ее настойчивого жениха. Под влиянием романтических произведений, которые составляли круг ее чтения, она представляла его себе (и ей это нравилось) в сапогах на толстой подошве, с лицом, обожженным ветрами пустынь, прорывающимся в недра земли в поисках пиратских сокровищ, испанских дублонов и драгоценностей инков. Напрасно Нивея пыталась ее убедить, что богатство шахт – это камни. Розе казалось невозможным, что из шахт нужно поднять тонны скалистых пород, чтобы получить, возможно, лишь грамм золота. Между тем она ждала его, не тоскуя, непоколебимая в своей великой идее: вышить самую большую скатерть в мире. Начала она с собак, кошек и бабочек, но скоро фантазия настолько завладела ею, что появился рай с невиданными животными, которые рождались под ее иглой, вызывая беспокойство отца. Северо считал, что наступило время, когда его дочь должна очнуться и твердо стоять на земле, выучиться домашней работе, подготовиться к браку, но Нивея не разделяла этой тревоги. Она предпочитала не терзать свою дочь земными делами, предчувствуя, что Роза – небесное создание и недолго пребудет в тяжком круговороте земной жизни. Она позволяла ей спокойно заниматься вышиванием и ничего не имела против ее кошмарного зоологического сада.
Одна из пластинок корсета у Нивеи лопнула и впилась в тело. Она почувствовала, что задыхается в своем голубом бархатном платье со слишком высоким кружевным воротником и очень узкими рукавами. Пояс затягивался так туго, что, когда она развязывала его, проходило полчаса, прежде чем живот разглаживался, а внутренности вставали на свои места. Со своими подругами-суфражистками они часто спорили по этому поводу и пришли к выводу, что, пока женщины не укоротят платья, не станут стричь волосы и не откажутся от нижних юбок, ни к чему изучать медицину, бороться за права и избирательные голоса; но ведь они не осмелятся сделать это, да и самой Нивее не хватало духу стать первой на этом пути. Тут она заметила, что глас священника перестал бить словно молотом по голове. В проповеди наступила долгая пауза. Божий праведник часто прибегал к подобному эффекту, чтобы в полном молчании своим горящим взором пробежать по лицам прихожан. Нивея отпустила руку Клары и, достав из рукава платок, вытерла каплю, сбегавшую по шее. Тишина сгущалась; время, казалось, остановилось. Никто не осмеливался кашлянуть или изменить положение тела, боясь привлечь внимание падре Рестрепо. Эхо его последних фраз еще звучало среди колонн.
И в это время, как вспоминала годы спустя Нивея, в минуты полного смятения и тишины, послышался чистый голос ее маленькой Клары:
– Уф! Падре Рестрепо! Даже если рассказ о преисподней – сущая выдумка, все равно нам скучно…
Перст указующий иезуита, который тот воздел, дабы обратить внимание на новые пытки, повис в воздухе, точно громоотвод над его головой. Все перестали дышать, а те, кто клевал носом, оживились. Супруги дель Валье первыми почувствовали панику. Дети вдруг разом заволновались. Северо понял, что должен действовать, прежде чем раздастся всеобщий смех или разверзнутся небеса. Взяв жену под руку, а Клару за шиворот, он потащил их к выходу, остальные поспешили за ним. Им удалось выйти до того, как священник смог бы превратить их в соляные статуи, но все же у порога до них донесся глас оскорбленного архангела:
– Одержимая дьяволом! Дьявольская гордыня!
Эти слова падре Рестрепо сохранились в памяти семьи словно серьезный диагноз, и в последующие годы их часто случалось вспоминать. Единственным, кто ничего не помнил, была сама Клара. Она ограничилась тем, что записала об этом в своем дневнике, а потом забыла. Зато ее родители об этом не забывали, хотя и считали, что одержимость дьяволом и гордыня были бы слишком большим грехом для такой маленькой девочки. Они боялись людского злословия и фанатизма падре Рестрепо. До этого дня странные способности Клары никак не обсуждались, а уж тем более не связывались с сатанинским влиянием, так же как хромота Луиса или красота Розы. Эксцентричность Клары никому не мешала, к ней приспособились в домашнем кругу. Иногда во время обеда, когда вся семья собиралась в большой столовой, занимая места в соответствии с иерархией, солонка начинала дрожать и без видимой причины перемещалась по столу среди тарелок и рюмок. Нивея дергала Клару за косы, девочка выходила из состояния своей странной рассеянности и возвращала солонку на место. Братья договорились, что, в случае прихода гостей, тот, кто окажется ближе, удерживает рукой передвигающийся по столу предмет, прежде чем чужие люди заметят это и успеют испугаться. А семья продолжала обед как ни в чем не бывало. Все давно уже привыкли и к предсказаниям младшей сестры. Она заранее предупреждала о землетрясениях, что было очень удобно, так как давало время упаковать столовую посуду и поставить рядом с кроватью домашние туфли, если придется выскакивать на улицу ночью. В шесть лет Клара предсказала, что лошадь сбросит Луиса, но он не прислушался к ее словам, и с тех пор у него было повреждено бедро. Со временем одна нога стала короче другой, и он был вынужден пользоваться специальным ботинком на толстенной подошве, которую сам смастерил. После случая в церкви Нивея расстроилась, но Нянюшка вернула ей покой, рассказав о многочисленных случаях, когда у детей, порхающих словно птицы, угадывающих сны и говорящих с духами, все проходит с утратой невинности.
– Вырасти такими они не могут, – объяснила она. – Вот увидите, настанет время, и у нее пройдет мания двигать мебель и предвещать несчастья.
Больше всех Нянюшка любила Клару. Она помогла ей родиться и была единственной, кто по-настоящему понимал странную природу девочки. Когда Клара вышла из чрева матери, Нянюшка приняла ее, обмыла и с той минуты отчаянно полюбила это хрупкое создание. Когда девочка задыхалась в приступе астмы, она много раз согревала ее теплом своей пышной груди, так как знала, что это простое средство действует гораздо лучше, чем водочные сиропы доктора Куэваса.
В тот Страстной четверг Северо дель Валье мрачно ходил по гостиной, думая о скандале, который вызвали слова его дочери во время мессы. Он понимал, что лишь такой фанатик, как падре Рестрепо, мог верить в бесноватых в двадцатом веке – веке просвещения, науки и техники. Нивея прервала его, сказав, что не это главное. Будет хуже, если весть о способностях Клары разлетится за стенами дома.
– Тогда люди станут приходить, чтобы посмотреть на нее, как на чудо, – заключила Нивея.
– И либеральная партия полетит к чертям, – добавил Северо, который считал, что колдовство в семье может нанести вред его политической карьере.
Так они разговаривали, когда вошла Нянюшка, шлепая альпаргатами и шелестя накрахмаленными нижними юбками. Она сообщила, что какие-то мужчины во дворе выгружают мертвеца. Так оно и было. Они въехали на четверке лошадей, запряженных в повозку, и заняли весь первый дворик, смяв камелии и запачкав навозом сверкающий настил. Вихрем вздымалась пыль, ржали лошади, а самые суеверные крестились от сглаза. Они привезли труп дяди Маркоса со всем его багажом. Во главе процессии стоял слащавый человечек, одетый в большой черный сюртук и черную шляпу. Он начал было торжественную речь, но Нивея резко прервала его и бросилась на запыленный гроб. Нивея кричала, просила поднять крышку, чтобы собственными глазами увидеть любимого брата. Однажды ей уже довелось хоронить его, и потому она сомневалась в том, что и на этот раз смерть пришла окончательно. На ее крики выбежали из дома слуги, а дети, услышав имя их дяди среди отчаянных воплей, примчались что есть духу.
Уже два года Клара не видела дядю Маркоса, но помнила его очень хорошо. Это был самый светлый образ ее детства, и, чтобы вспомнить его лицо, ей не нужно было рассматривать дагеротип в большом зале. Маркос был снят в дорожном костюме, он опирался на двустволку старого образца, поставив правую ногу на шею малайзийского тигра, точно в такой же торжественной позе, какую она запомнила, рассматривая Святую Деву в большом алтаре, попиравшую поверженного дьявола среди гипсовых облаков и бледных ангелов. Кларе было достаточно закрыть глаза, чтобы увидеть своего дядюшку, здорового и невредимого, обожженного всеми ветрами планеты, худощавого, с усами флибустьера, из-под которых виднелась его странная улыбка с зубами как у акулы. Невозможно было представить его в этом черном ящике посреди патио.
Всякий раз, когда Маркос появлялся в доме своей сестры, он оставался у нее на несколько месяцев, вызывая радость племянников, особенно Клары, и принося бурю, нарушавшую порядок в семье Нивеи. Дом наполнялся странными баулами, забальзамированными животными, стрелами индейцев, морскими сокровищами. Повсюду можно было наткнуться на непонятные предметы, а то вдруг появлялись невиданные твари, которые проделали путешествие из самых далеких земель, чтобы закончить свою жизнь под неумолимой метлой Нянюшки в каком-нибудь углу дома. Манеры у дяди Маркоса, по словам Северо, были прямо-таки каннибальские. Ночами он проделывал непонятные движения в зале, которые, как потом оказывалось, служили упражнениями для совершенствования контроля головы над телом и улучшения пищеварения. Он ставил алхимические опыты на кухне, наполняя весь дом смрадными парами и приводя в негодность горшки, ко дну которых навсегда прилипали какие-то несмываемые твердые вещества. В то время как другие пытались уснуть, он перетаскивал свои чемоданы по коридорам, извлекал резкие звуки с помощью дикарских инструментов и учил говорить по-испански попугая, родной язык которого был амазонского происхождения. Днем он спал в гамаке, подвесив его к двум колоннам в коридоре, а его единственным одеянием была набедренная повязка, приводившая в ужас Северо; однако Нивея прощала Маркоса, потому что тот убедил ее, что именно в таком виде проповедовал Иисус Назаретянин.
Клара великолепно помнила, несмотря на то что была маленькой, как впервые приехал к ним дядя Маркос, вернувшись из своих путешествий. Он устроился так, словно собирался остаться здесь навсегда. Вскоре ему, правда, надоело бывать на вечеринках, играть в карты и уклоняться от настойчивых советов родственников опомниться и пойти работать помощником в бюро адвокатов Северо дель Валье. Он купил себе органчик и пошел бродить по улицам с намерением обольстить двоюродную сестру Антоньету, а заодно повеселить публику музыкой своей шарманки. Это был ободранный ящик с колесами, который Маркос разрисовал морскими мотивами и снабдил фальшивой пароходной трубой. Напоминало все это кухню, отапливаемую углем. Органчик играл или военный марш, или вальс, по очереди, и в то время, как вращалась ручка, попугай, который выучился говорить по-испански, хотя еще не избавился от акцента, привлекал публику пронзительными криками. К тому же он выбирал клювом записочки из коробки с предсказанием судьбы для тех, кто проявлял любопытство. Розовые, зеленые и голубые записочки были так хитроумно составлены, что всегда содержали сокровенные тайны клиента. Кроме записочек с судьбой, дядя Маркос еще продавал раскидаи для детей и порошки против импотенции, торгуясь вполголоса с прохожими, страдавшими тайным недугом. Мысль об органчике родилась у него как последнее отчаянное средство привлечь внимание двоюродной сестры Антоньеты (все другие способы ухаживания провалились). Он подумал, что ни одна женщина в здравом уме не смогла бы остаться равнодушной к песне шарманки. Потому так и поступил. Однажды вечером он пришел под ее окно и стал играть то военный марш, то вальс. Она пила чай в кругу своих подруг и ничего не понимала, пока попугай не стал выкрикивать имя, данное ей при крещении. Тогда она нехотя высунулась в окно. Не такой реакции ждал от нее влюбленный. Подруги взяли на себя труд описать эту историю во всех гостиных города. На следующий день публика стала кружить по центральным улицам в надежде увидеть своими собственными глазами шурина Северо дель Валье, играющего на органчике и продающего раскидаи. Им очень хотелось самим во всем удостовериться, а также получить удовольствие оттого, что и лучшим фамилиям в городе есть чего стыдиться. Семья так огорчилась, что Маркос был вынужден отказаться от органчика и выбрать другие методы, чтобы понравиться двоюродной сестре. Успеха он, однако, не имел, и в один прекрасный день девушка вышла замуж за некоего дипломата старше ее на двадцать лет. Тот увез ее в одну из тропических стран, название которой никто не мог вспомнить, говорили, что там полно негров, бананов и пальм. В далеких краях Антоньета забыла о претенденте, потревожившем ее восемнадцатилетнюю жизнь военным маршем и вальсом. Маркос впал в депрессию на два или три дня, после чего объявил, что никогда не женится и отправляется в кругосветное путешествие. Он продал органчик одному слепому, а попугая оставил в наследство Кларе, но Нянюшка тайно отравила его рыбьим жиром, дав слишком большую дозу. Она не смогла вынести его сладострастного взгляда, блох и дурацких криков.
Именно это путешествие Маркоса было самым продолжительным. Он вернулся с огромным грузом ящиков, которые сложили до окончания зимы в последнем патио, между курятником и дровяным сараем. С приходом весны их переместили в парк Парадов, на открытое огромное поле. В дни отечественных праздников там собирался народ, чтобы посмотреть марш военных, шедших гусиным шагом, заимствованным у пруссаков. Когда ящики открыли, в них оказались разрозненные детали из дерева и металла, а также пестрые ткани. Две недели Маркос соединял отдельные части в соответствии с инструкцией на английском языке, которую он расшифровал благодаря своему неординарному воображению и карманному словарю. Когда работа была закончена, оказалось, что это птица доисторических размеров с головой свирепого орла, с двигающимися крыльями и пропеллером на хребте. Это вызвало всеобщее потрясение. Аристократические семьи забыли органчик, и Маркос стал сенсацией сезона. По воскресеньям люди совершали прогулки, чтобы увидеть птицу, а продавцы легких закусок и бродячие фотографы воспользовались случаем набить карманы. Тем не менее интерес публики вскоре заметно ослабел. Тогда Маркос объявил, что, как только позволит погода, он намерен поднять птицу в воздух и пересечь Кордильеры. Новость распространилась мгновенно и превратилась в событие, о котором больше всего говорили в том году. Машина прочно лежала брюхом на твердой земле, тяжелая и неуклюжая, скорее напоминая раненую утку, нежели один из тех современных аэропланов, что начали строить в Северной Америке. Невозможно было поверить, что эта штука может двигаться, а уж тем более подняться в воздух и пересечь заснеженные горы. Журналисты и любопытствующие сбежались гурьбой. Маркос широко улыбался под шквалом вопросов и позировал фотографам, не предоставляя никакого научного объяснения по поводу осуществления своего замысла. Были здесь и провинциалы, специально приехавшие посмотреть этот спектакль. Спустя сорок лет внучатый племянник Маркоса Николас, которого тому не довелось узнать, воскресил мечту о полете, что владела мужчинами их рода. Николас решил подняться в воздух в коммерческих целях на наполненном подогретым воздухом гигантском шаре с рекламой газированных напитков. Но во времена, когда Маркос объявил о своем путешествии на аэроплане, никто не верил, что это изобретение может послужить чему-либо полезному. Маркос был искателем приключений, этим все и объяснялось. Утро, назначенное для полета, оказалось пасмурным, но Маркос не пожелал отменить свое путешествие. Он явился на место в назначенный час и даже не взглянул на небо, покрытое серыми и черными тучами. Ошеломленная толпа заполнила все близлежащие улицы, вскарабкалась на крыши и балконы домов и протиснулась в парк. Ни одна политическая акция не смогла привлечь столько людей даже спустя полвека, когда первый марксистский кандидат должен был абсолютно демократическим путем занять кресло президента.