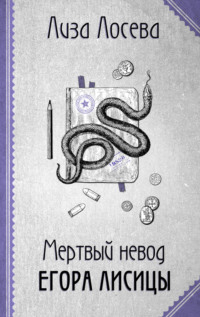
Мертвый невод Егора Лисицы
Я махнул фельдшеру. Он подошел ближе.
– Аркадий Петрович, ведь это вы осматривали тело?
Рогинский, задумавшись, приминал мокрую траву галошей и ответил не сразу.
– Ах да, я, кто же еще… Видимых следов насилия нет, – дословно повторил он объяснения Турща. – Впрочем, не было возможности провести полноценный осмотр. Как раз накануне снова… разные случайности, инциденты. К тому же стало известно, что краевое начальство обяжет товарища Турща привлечь к делу auctoritas[7] – врача из города.
Стена взъерошенного ветром рогоза – рыжая, вода поблескивает в просветах… Услышав шорох, я подождал: из зарослей вышла птица с тонким кривым клювом. У берега стебли рогоза были сильно примяты, я шагнул рассмотреть ближе.
– Нужны сапоги, если хотите зайти глубже, – остановил меня Турщ, подойдя и не вынимая рук из карманов.
Рогинский, приблизившись, с готовностью предложил:
– Пройду вперед? Гляну, может, сумеете пробраться.
Прыгая по кочкам, он угодил в ил, провалился, но выкрутился, как шуруп, в обратную сторону, цепляясь за камыши.
Турщ говорил, перекрикивая ветер:
– Тут редко кто ходит.
– Из-за цвета воды? Боятся?
– А что вода? – фельдшер наконец вылез, стуча ногами, стряхивая ил. – Это багрянка – красные водоросли, Rhodóphyta. Цветут, извольте видеть.
Рогинский прибавил, уже обращаясь только ко мне:
– Там неглубоко, а чуть дальше отмель. Пробраться можно, – и продолжил: – Явление довольно редкое. В прошлый раз пришлось на год кометы. И вот – снова! Накануне эти водоросли погнал к берегу «багмут» – северо-западный ветер. Аккурат в ночь перед тем, как здесь нашли тело девушки.
– Вот бы и разъяснили явление в клубе, товарищ Рогинский. – Турщ досадливо сморщился. – Предрассудков было бы меньше.
Фельдшер покрутил головой.
– Разубедить здешний народ невозможно, сами знаете. Да и веса среди местного населения у меня нет, вы не раз говорили.
Турщ отвернулся.
Обсыпанный как мукой шелухой рогоза и мелким мусором, я добрался до узкой полосы белого песка – отмели. Осматриваясь, наткнулся на почти целиком занесенный песком обломок лодочной обшивки. В ржавом металлическом кольце обрывок истрепанной веревки. Осмотрел, стараясь не слишком ворочать. Из-под доски выскользнула потревоженная гадюка, прочертила извилистую линию на песке.
На берегу я достал блокнот, набросал план места. Турщ наблюдал за мной, сунув руки в карманы. Фельдшер бродил неподалеку, шевеля тростью пучки острой травы. Я окликнул Турща:
– Где сейчас тот местный, который нашел ее? Австрияк. Я бы хотел поговорить с ним.
– Потолкуете, само собой. За день до этого, – он кивнул на камыши, – видели, что она говорила с ним. Точнее, спорила.
– Все же вы погорячились его отпускать, – не утерпел я.
Турщу упрек не понравился.
– Не хотел. Считаю, что он причастен. Да священник баламутил, уперся. – Турщ закурил. – Впрочем, не беспокойтесь, в такой разлив ему отсюда податься все равно некуда.
– Может, она еще с кем-то ссорилась незадолго до смерти? – спросил я Турща.
– С семьей была в ссоре, – ввернул подошедший Рогинский.
– Я не имел касательства к ее личным делам, – добавил Турщ в своем телеграфном стиле. – Возникла необходимость в агитации, товарищу Рудиной выдали деньги. Она поехала в город. Все как обычно. Если вы тут закончили, двинемся дальше?
* * *На обратном пути, уже в Ряженом, пока я мысленно клял себя, что позволил вместе с вещами унести и мой докторский саквояж, из-за чего приходилось сделать крюк и зайти за ним на «квартиру», Турщ, выражаясь по матери, остановился и ободрал со стены лавки какие-то листки. Фельдшер Рогинский отстал, шагал, о чем-то задумавшись. Турщ ткнул бумагой в мою сторону. Я прочел:
«Товарищи-граждане, по всему району известно, что наш округ задался целью показать пример о проведении социализма. Что такое социализм? Это есть обман крестьян. Товарищи, мы обмануты!»
– Видите, что делается? Форменный саботаж, срываю через день. Село и станицы рядом в прошлом были контрреволюционными, и не служивших у белых, кроме молодежи, считайте, никого нет.
– А погибшая? – спросил я.
– Двадцать лет. Хороший работник. Организовала в селе курсы по ликвидации безграмотности. Агитировала местное население записываться в артель. Но, как я уже говорил, шло туго. Сейчас байды, рыбацкие лодки, личные, а будут общественные. Отдают с боем, а потом отказываются чинить, конопатить. Говорят, раз общее – значит, ничье.
Турщ посмотрел наверх, я проследил за его взглядом: хищная птица раскинула крылья. Вдалеке точки – лодки рыбаков. Красные волны отсюда смотрелись темной полосой.
– Вдоль берега всюду рыбачьи поселки?
– И казачьи станицы. В работе с казаками были перегибы, это не отрицается. – Турщ методично складывал сорванное объявление. – Сейчас взят другой курс. Так сказать, не допускать опасной искры, не подпалить бикфордов шнур. У нас работают ревкомы – для более тесной связи с населением… – Сложив бумагу, он ногтем сгладил сгибы, как портной стрелки на брюках. – Но, несмотря на это, участились нападения на артель. Мешают работе, учету рыбы. Портят имущество. Останавливают обозы. Кроме того, из порта идет контрабанда…
Турщ аккуратно разорвал объявление, клочки полетели на землю.
– Подозреваем, – продолжил он, – что нападения и саботаж, а пожалуй, и контрабанда имеют один источник. В последний месяц обстановка в Ряженом мутится явно организованно.
– Есть мысли, догадки – кто именно мутит?
– Известно, вполне. Черти. – Нас нагнал фельдшер.
– Черти?
– Нападавших так и описывают: шерсть, рога, копыта… Поймать пока не выходит. Вот, пришли. Тут вас и разместили.
В комнате, которую мне определил хозяин, я пристроил в углу на вешалке тяжелый от сырости плащ. Попросил немного времени собрать все нужное.
Раскрыл саквояж, проверяя, не забыл ли чего. Турщ сел на лавку у окна, достал папиросу. Фельдшер с любопытством разглядывал содержимое моего саквояжа. Прищурился, всматриваясь в коробку с порошком.
– Это для дактилоскопии, – пояснил я.
– От греческого – «палец» и «смотрю»? – уточнил фельдшер.
Я кивнул:
– Рисунок кожи на пальцах индивидуален. Непревзойденная вещь для определения личности. Нужен особый порошок, но в крайности подойдет и толченый грифель, и хорошая дамская пудра.
Фельдшер бросил рассматривать коробочку и потянулся за тростью.
– Пойду вперед, подготовлю все, – заговорил он деловито. – Тело мы опустили в погреб, там подходящая температура, молоко не киснет, бывает, что и неделю. Но поторопиться с аутопсией нужно. Третий день, жители возмущены, что не даем хоронить.
Турщ с фельдшером переглянулись неожиданно мирно.
– Приходили женщины, вышла тяжелая сцена. Уже и домовину сколотили, и яму выкопали, и погребальное сшили. А вот отец и братья в стороне. Она ведь для них безбожница-активистка…
Он вышел.
Я прикинул, во что бы переодеться. Понятно, что при такой погоде перемены мне хватит ровно на полчаса, но уж больно противно липла к телу промокшая от дождя рубашка.
На улице послышались крики. Бросив папиросу, Турщ выскочил за дверь. Я выглянул в окно, но через запотевшее стекло ничего не увидел. Схватив плащ, кинулся следом, закрывая на ходу саквояж.
– Опоздали! – Фельдшер Рогинский махал руками, торопил нас. – Мать и кое-кто из местных забрали тело! Увезли в церковь!
Мы почти бежали по улице.
– Этого нельзя допустить! – кричал я Турщу, думая, что если тело успели подготовить для похорон, то уничтожили все улики, которые еще можно было бы найти. – Как же вы проглядели?
Тот так опешил, что начал оправдываться:
– Это ж такой народ! Категорически любого выпада, подлянки можно ждать! – Он остановился, развел руками.
Фельдшер пыхтел, багровея от быстрого шага. Выговорил, задыхаясь:
– Больница не острог, охраны там нету!
Турщ, с досады далеко сплюнув, шагнул, чтобы не попасть себе на начищенные сапоги.
– Нужно задержать погребение, – сказал я. – Либо успеем, либо придется эксгумировать.
– Выкапывать, значит… Растерзают. Зашумят! Идите к пристани, я нагоню, только возьму подмогу. – Турщ ушел, широко шагая.
* * *Солоноватый ветер посвистывает, подталкивает на волнах, заносит в лодку дождь пополам с речной водой.
– Любашу у нас все знали. С семьей она в контрах. Вообще у казаков бабы – ух, боевые, по хатам не сидят. А Любка и вовсе… в городе училась, опять же курсы политграмоты. – Молодой милиционер (из округа, его разыскал и взял с нами Турщ) гребет с усилием, но продолжает болтать. Отмахнулся от моего предложения сесть на весла, сказав, что знает все протоки здесь и так пройдем быстрее. Ориентируется как птица, чутьем – за камышами проток не рассмотреть. Дождь мелкий, морось лепит волосы к лицу.
– Из города она на машине с почтой добиралась? Я говорил с водителем.
– Да, как обычно, на ней! Но колесо увязло, Люба не стала ждать, пока вытащат, вылезла, сказала, пешим ходом быстрее. Верно я говорю, товарищ Турщ? – Милиционер опустил весла, осмотрелся, и мы нырнули в другую протоку.
– При ней были личные вещи кроме материалов для агитации. Где они?
– Узел был. Ну, ищо чемодан. Она его в кабине шофера оставила. Чтоб вроде как подвез ей опосля. И пошла. Чемодан мать забрала.
Он греб некоторое время молча, всматриваясь в лабиринт камыша.
– Когда ночевать не пришла, мы весь вечер в хаты стучали. Нам сподмогли берег осмотреть. Но видели ее, нет – не доспрашиваешься: молчат, ироды. Товарищ Турщ вам расскажет, какие тут творятся дела. С властью Советов не хотят сотрудничать!
– Если хватились быстро, значит, она нечасто возвращалась поздно?
– Значица так, раз всполошились. Но я, товарищ, считаю, немцы это. В кузове ж мужик с девкой были, из этих! Ихали с города.
– Предубеждение, – буркнул Турщ. – Случись что, местные винят сектантов или немецких колонистов. Хотя в обычное время рядом живут вполне мирно.
– Вон, уж видно – церква, – милиционер проглотил протест, направил усилие к берегу.
– Заупокойная кончилась, не успели мы, – сказал фельдшер.
Церковь – кирпичная, пустая, темные купола. Кладбище в стороне. Гранитные памятники со скорбящими ангелами. Заросшее мхом, выбитое в камне посвящение попечителю храма, имя не разобрать. Деревянные кресты частоколом.
– Заложные покойники, – бросил милиционер на ходу, – старое чумное кладбище. А нам… вона, смотрите!
Толпа у ямы невелика – черные платки, сдернутые фуражки. Большинство женщины. Одна в центре – напряженное лицо, низко сдвинут платок, товарки обняли за плечи. Видимо, мать. Я отвел глаза. Земля мокрая – кто впереди, еле удерживается на краю. Яма пустая. Домовина стоит рядом – простая, из светлых мокнущих досок. Мы подходим. Причитания и ропот перерастают в крики.
Турщ хватается за квадратную кобуру маузера. Молодой милиционер сжимает «линейку»[8]. В стороне от толпы и ямы я как могу убеждаю священника – одна надежда на его разумность.
Тот твердит: «Одобрить не могу – вы что же…» Приходится давить. Подошедший к нам Турщ трубит угрозы. Священник чуть не плачет, но уступает и, чудо, убалтывает толпу. Переговариваемся: лодка не потянет, просядет, надо вынуть тело из домовины.
Поп умоляет поторопиться – долго народ уговорами не удержать. Везение, что отец и братья не вмешиваются.
– И все же дочь… Хоть и безбожница, а может, опомнятся, – причитает священник.
Вносим домовину в церковь. Потом через подворье обошли – и к лодке: та пляшет на волнах, рвется. Удерживаем, стоя в воде по пояс.
– Думал, разорвут, стрелять придется. – Турщ оглядывается на церковь. – Отправляться нужно, да побыстрее.
* * *Больницу, одноэтажное здание с мезонином, широким крыльцом и вроде пристройкой-флигелем, я толком не рассмотрел. Мы быстро прошли в темную прихожую. Мелькнуло женское лицо.
– Я поставил стол у окна, чтобы было больше света, – фельдшер кивнул на оконный проем в частом переплете и вдруг продекламировал: – «Ее одежды, раскинувшись, несли ее, как нимфу; она меж тем обрывки песен пела…»[9]
Я уставился на него:
– Пела? Это вы в общем смысле?
Он не смутился:
– В общем, конечно, именно в нем! Пришло на ум поэтическое совпадение из строк Шекспира. Трагический случай с Офелией.
– Турщ сказал, вы не нашли признаков утопления.
Чуть нагнувшись, он начал снимать платок и венчик с головы покойницы.
– Вы городской специалист, вам и выносить вердикт. А вот и о сходстве с Офелией, смотрите-ка.
Волосы девушки были длинными, а не по моде на городской манер «а-ля гарсон»[10], и лежали, как водоросли. Фельдшер, разбирая пряди, вынул смятый стебель цветка. Приоткрыл саван, в складках ткани тоже оказались цветы. Полевые, блеклые, вроде колокольчики.
– Положил кто-то в домовину, не в привычках здесь, но все же трогательный жест, – сказал фельдшер.
– Это местное растение? Какое, не знаете?
– Это… – он поднес стебли почти к носу. – О! Интересно. «Персты покойника», или «плакун-трава». Нет, погодите. Это цветок ятрови. Ботаническое название – ятрышник, семейство Orchidaceae. А народное – несколько смелое. Основано на внешней схожести корня растения с мошонкой. На латыни scrotum, яичко – testis. Корень используют как приворотное зелье – суеверие, конечно.
– Цветы растут там, где нашли тело?
– Вполне может быть, вполне. Рано цветет, встречается нечасто – на мокрых солончаках, в песке… У нас тут были поразительно теплые недели. А потом вот снова, – махнул за окно: снег летел, как перья.
Мы разложили свернутые в узел вещи покойной. Жакет городского фасона, ткань хорошего качества, но в пятнах засохшей грязи. Видны повреждения – мелкие дыры, торчащие нитки.
Разгладив подол юбки, фельдшер снял с него зацепившийся жесткий стебель.
– То же растение, но иного рода. Чертополох, точнее, бодяк красноголовый. Защита от порчи и дурного глаза. Коробочки с колючками, старые, цепкие, видимо, еще с зимы, новым цвести пока рано.
– Там, на поляне, я его не заметил.
– Разумеется. Он растет большей частью в оврагах.
– Вы удивительно много знаете о растениях.
– О, я тут увлекся ботаникой. Не дает закиснуть, да и польза для дела существенная. К народным средствам не нужно относиться свысока. Природа суть лекарство. Или вот, взять язык цветов: «крапива» означает «боль». А, допустим, Nymphaéa álba? Нимфея. Попросту – кувшинка белая. Здесь ее много, скотом не поедается. «Нимфея» означает «отказ от лжи».
Рогинский бубнил над ухом еще что-то. Я уже не слушал. От непростого дня и почти бессонной ночи голова у меня гудела, как горшок, по которому хорошенько треснули палкой.
* * *Для исследования тел власти то и дело печатали новые регламенты, в которых, однако, судебно-медицинский эксперт оставался главным действующим лицом, коему предписывалось «оказывать полное содействие». Я вытурил фельдшера из «прозекторской» – его присутствие и болтовня мне мешали. Тем не менее необходимы были понятые… Ладно, обойдусь пока. Частенько приходилось отступать от правил.
Подкрутил керосиновые лампы. Убрал марлю с окна. Оно выходило на поле и залив, но и сюда долетал усиливающийся гул голосов во дворе больницы.
Не слушая, повторяя про себя рифмованные строчки – по привычке, чтобы сосредоточить внимание, – я занялся делом. Все нужное я привык иметь при себе – иглы, губки, бечевку и сургуч для запечатывания пастеровских пипеток и пробирок. Банки с притертыми пробками и камфара, чтобы приглушить запахи во время исследования тела, нашлись здесь.
Уже тщательнее осмотрел вещи Рудиной. Головки чертополоха срезал, завернул в бумагу. На блузе с тряпичным галстуком не было верхних пуговиц. Под воротником – плотные масляные капли. Снял немного пинцетом, рассмотрел – по виду темный свечной воск. Вырезал часть ткани в надежде собрать отпечаток, но фрагменты были тонкими, смятыми, распадались.
Я проверил карманы жакета – нашлась круглая оправа, вещь недешевая, узор на синей эмали. Вывернул карман над листом бумаги, прошелся щеткой по швам. Посыпались сверкающие крошки – разбитое зеркальце. Следы пальцев на оправе смазаны. В другом кармане обнаружилась сложенная красная косынка. Обувь сильно поношена, дырочки замазаны чернилами. У туфли обломан каблук. Судя по состоянию одежды, Рудина бежала или пробиралась через кустарник – шиповник или терн. Надо бы узнать, какой дорогой она возвращалась. Проезжий тракт, которым мы добирались до пристани, один, но пешком наверняка можно спрямить. Подол юбки спереди в засохшей грязи – видимо, не раз падала. Место, где ее нашли, этот Гадючий кут, не так далеко от дороги. Но там нет колючего кустарника, фельдшер сказал «голощечина» – всюду мелкий белый песок… Как там сказал Турщ – демонстративная выходка, плевок в лицо власти?
Я посмотрел на девушку – сомкнутые веки. Тело обмыли, подготовили для похорон. Открытые части – руки, лицо – все в мелких царапинах, кровоподтеках. Непохоже на укусы или следы ударов тела о камни. Скорее все то же – колючий кустарник. Несколько ссадин. Такие повреждения возникают, если человека с силой тащить по неровной жесткой поверхности.
Кое-где на теле пятна – сначала я подумал, что это следы ушибов, но, достав сильную линзу и разглядев, разобрался, что материя, в которую завернули тело, видно, была такая дрянная, что краска въелась в кожу, оставила следы. Время смерти совпадает с установленным фельдшером.
Прибавив света, я сделал первый продольный надрез и начал вскрытие. В легких воды нет, что ожидаемо. Мозг, внутренние органы.
Исследуя ткань сердца, заметил зону некроза, окрашенную в более светлые тона, ее оттенок постепенно менялся на желтовато-серый. Это значило, что приток крови к сердечной мышце внезапно резко сократился.
Сердце. Английский медик, анатом Гарвей, сравнивал процесс перекачки крови в сердце с работой насоса, бесконечно повторяющего один и тот же цикл. Удар – кровь идет по артериям – потом по венам – снова удар – и завершение круга. Что могло вызвать остановку сердца у молодой, крепкой деревенской девушки?
Проверил на яды, и в первую очередь на дигиталис. Он вызывает повреждения, сходные с теми, что возникают при параличе сердечной мышцы. В деле отравителя Поммерэ, триумфе французских судебных медиков, преступник использовал этот яд, добываемый из наперстянки.
Однако ни следа известных растительных ядов.
Места тут кишат змеями… Гадюки весной медлительны, укус вряд ли станет смертельным для взрослого человека. Но только если он здоров. Яд дает довольно серьезный отек, опухоль бывает такой, что лопается кожа. Я проверил зрачки – непохоже, следов укуса не нашел. Я постоял, опершись на стол, прикинул. Признаки подходят под осложнение инфаркта миокарда. В просторечии «смерть от разрыва сердца».
В гимназии по классам ходила затрепанная книжка о приключениях гения русского сыска сыщика Путилина[11]. Уговор – прочесть за ночь. Проглатывали при свечке, вздрагивая от шорохов: то ли родители заметили полосу света и будет взбучка, то ли преступник-горбун «с дьявольски злобным лицом» лезет в окно. И вот там-то, помнится, была история о смерти от сильного испуга. Смерть от испуга и возможна-то только в бульварных романах. Это факт, как выражается товарищ Карась. Но леший меня раздери, если я сейчас не с ней имею дело!
У страха есть «проводник» – надпочечники. Они выделяют в кровь вещество адреналин, недавно открытый в Северо-Американских Штатах. Когда к жертве подбирается хищник, адреналин, как хлыст лошадь, подстегивает, толкает бежать, спасаться. Я снова поглядел на мелкие дырочки – пуговички у ворота блузы вырваны с мясом. Она задыхалась, искала воздух. Бежала, не разбирая дороги, не замечая царапающих веток. Резкий выброс адреналина… при осложнениях с сердцем… Надо расспросить фельдшера и родителей, жаловалась ли Рудина на боли в груди, страдала ли ишемической болезнью. Исследуя тело, я установил еще одну причину возможной общей слабости. Очевидно, накануне в городе она сделала аборт. Неплохой мотив, если отец ребенка женат и не хочет огласки.
В судебно-медицинский протокол я, поколебавшись, вписал понятым Турща, а фельдшера – своим помощником. Что же, ruptura cordis – разрыв сердца. Сознательно так убить нельзя, случайно – можно. Выходит, смерть – случай? Но последующая выходка с телом явно умышленная.
У двери загремели голоса, я накрыл тело простыней. Стук сапог. Вошел Турщ, отряхивая мокрый снег. Спросил:
– Ну что?
– Инфаркт, – сказал я. – Разрыв сердца.
– Отлично. Конец пересудам!
Турщ бросил взгляд на тело, цокнул и вышел.
У больничного крыльца собралась небольшая толпа. Женщины, завидев меня, замолчали, но глаз не опустили. Я узнал среди них мать Рудиной.
– Товарищи! – Турщ возвысил голос до торжественного. – Медицинский работник, присланный из города, из Доноблугро, точно установил, что смерть товарища Рудиной наступила от болезни сердца.
Его перебили выкрики, гул усилился:
– Наброд[12]! Уж он так знает!
– Поди брешет, гундор[13]!
– Балабон[14]!
– Вредные слухи…
– А ну!
Крики стали громче, лица – злее. Я поднял руку.
– Послушайте! – Мои слова потонули в свисте. Понял, что не перекричать, заговорил негромко: – Простите…

Сработало. Те, кто ближе, замолкли, вслушиваясь, зашикали на остальных. Гул постепенно затих.
– Простите, – повторил я, – что пришлось прервать погребение. Поступить не по-людски. Но выхода не было. Погиб ваш товарищ, – я посмотрел на мать, – дочь. Мы должны дознаться, установить.
– Дело говорит, – высокий голос из толпы. – Жаль девку.
– Поэтому мы будем благодарны, – я «ковал железо», – за любую помощь. Мне нужно поговорить с теми, кто ее хорошо знал…
Лица, напряженная тишина. А потом снова гул голосов, волнами, недовольный, но уже без злобы.
– Зачем вам это? – Турщ дернул за руку, махнул в глубь крыльца. – Баста! Сделано дело. Диагноз окончательный.
– На подробности вам плевать? – я злился и не скрывал этого. – Любовь Рудина сделала аборт незадолго до смерти. Ее, очевидно, преследовали, испугали! Возможно, отец ребенка? Не станете искать? И тот, кто переместил тело, тоже пусть гуляет?
Турщ помолчал, похлопал по карманам, но папиросы не достал.
– С этим мы сами решим. Руководству я предоставлю отчет по вашей работе. А вы – можете ехать.
Мне довольно сильно наскучило, что все распоряжаются мною. Ответил резче, чем собирался:
– Я, товарищ Турщ, назначен сюда моим начальством. Разобраться досконально. Смерть – явление социально-правовое, – я ввернул фразу из какой-то давно читанной брошюрки. – И как вы прикажете мне добираться до Ростова? Разлив.
– Ладно, воля ваша. Оставайтесь. Пойдете вечером к фельдшеру? Верно, он уже звал?
– Нет. А вы ходите?
– Не приглашают, – отрезал он и спросил, можно ли дать добро забирать тело. Я попросил час, чтобы привести все в порядок.
Постоял на крыльце – тяжелый солоноватый ветер остужал лицо – и вернулся в прозекторскую.
* * *После мороси улицы сухость и тепло комнаты навалились как одеяло. Я прислонился к стене, подумывая, не посидеть ли хоть немного, но времени не было. Растерев лицо руками, чтобы собрать мысли, стал зашивать.
Услышав, как скрипнула дверь, поглядел на часы, – оказалось, что провозился я довольно долго. В щели заблестел глаз, дверь открылась пошире, выкатилась уверенная плотная тень.
– Иди, дай нам заняться.
Тень стала женщиной. Приземистой, круглой как луна. Говорила она, как многие тут, мешая русские слова с диалектными, смягчая согласные, – я с трудом поспевал за ее речью.
– Голошейка ее иде? – И добавила, увидев, что я не уловил сути: – Рубашка? Бабы шили, штоп иголка шла фпирет, на жывую нитку – это штоп дорога ей была итить на тот свет.
Из ее бормотания стало ясно, что она местная повитуха, а при случае и плакальщица, или, как она сказала о себе, «ахалыцица», – и добавила, охая:
– Распотрошил девку, словно таранку, тут сподмочь надо.
И хотя я молчал, помогая ей, бабка и имя свое назвала – Терпилиха. Она продолжала говорить низким шепотом, как будто мы могли кого-то разбудить.
– Ты не думай, мне и пятиалтынного не дадут, и не надо. Это фсе для нее, – кивнула в сторону тела девушки. – Жалку́ю ее.
– Вы ее знали?
– Я-то? Знала али нет, мне фсе – едино. Мне сила дана сподмогать. Я фсе ить могу. Кости умею лячить, заговор на Антонов агонь[15] знаю – против гнетучки[16]. Могу выливать переполох[17]. Жабу дубоглот[18] сведу, а то и дурну болеснь[19] могу. Ну, уж есля покойник, то зафсегда меня зовут.
– Если жалеете, может, знаете, кто хотел ее обидеть?
Терпилиха нагнулась с усилием, потащила таз из-под стола. Я достал, отдал ей.
– Ты тута наброд. Долго ехал, а – зазря! Змей губит, змей крутит… Как он ее, жалочку, в саван-то красный скрутил! Так-то он к жалмеркам ходит. У кого казак на службу ушел. А нет, так к вдовам. А она ить не вдова и не мужа жена. Вот мается если девка, так змей к ней наладится. И сушит ее до смерти лаской.

