
Стыд
(Надо сказать, что жена его – Суфия Зинобия, старшая дочь генерала Резы Хайдара, тоже не спала по ночам. Но если Омар-Хайам приучил себя бодрствовать, то бедняжка Суфия Зинобия мучилась, закрывала глаза, отчаянно терла веки, тщетно пытаясь избавиться от бессонницы, словно от соринки или от непрошеной слезы. А каким пламенем горела она в той самой комнате, где впервые открыл глаза ее суженый и где навеки закрыл свои его дед, подле знаменитого ложа со змеями-искусителями и райскими кущами… ах, это проказливое будущее опять встревает! Мне остается ниспослать на него самые страшные кары, а сцену смерти отправить до поры за кулисы.)
Годам к десяти Омар-Хайам проникся благодарностью к защитницам-горам на горизонте. Они укрывали и с севера, и с юга. Немыслимые горы! Этого названия не найти в самых подробных атласах. Видно, и географам не объять необъятного. Мальчик пристрастился к чудесному, блестевшему медью телескопу. Он откопал его в жутких дебрях домашнего хлама. И, разглядывая звезды на Млечном Пути, Омар-Хайам отчетливо понимал, что ни одно тамошнее существо, будь то живой песок или газовое облако, ни за что не отыскало бы своей родной планеты по названиям в затертых Омар-хайамовых звездных картах.
– Это наши горы, – говаривал он, – и назвали мы их так неспроста.
Порой на улицах города появлялись и сами горцы, узкоглазые, словно выточенные из камня. (Не столь твердокаменные горожане, завидев их, спешили перейти на другую сторону, дабы избежать нестерпимой вони и бесцеремонного обращения.) Обитатели Немыслимых называли их “Крышей рая”. Нередко весь горный кряж, а с ним и городок сотрясались от подземных толчков – сейсмически неблагоприятный район! – и горцы свято верили, что это ангелы прорываются наружу. Много лет спустя младший брат нашего героя и впрямь увидит крылатого человека в золотом сиянии, смотрящего с крыши, а пока маленький Омар-Хайам самостоятельно вывел и развил любопытную гипотезу: рай находится не на небе, а внизу, прямо под ногами. Неспроста ангелы колышат твердь, выбираются на свет божий – видать, не безразлична им мирская суета. И под напором ангелов горный кряж то и дело менял очертания. Порой из ярко-желтых склонов вдруг выпирало множество столбов, столь совершенных по форме и богатству геологических слоев на срезе, будто их вытесывали великаны-богатыри в земных недрах. Но вновь появлялись ангелы, и чудесные сказочные башни обращались во прах.
Итак, Ад наверху, Рай – внизу. Я не случайно так подробно описываю теорию Омарова окраинного бытия, своеобычную, но зыбкую, как песок: хочется выделить, что вырос он меж двух извечных стихий Добра и Зла, и его недолгий жизненный опыт подсказывал, что силы эти, так сказать, поменялись местами. Оттого-то все в мире и представлялось перевернутым с ног на голову. Последствия такой убежденности оказались разрушительнее любого землетрясения, да только их не измерить – не придуман еще сейсмограф души. Итак, лишенный обрезания, обривания и благословения, Омар-Хайам чувствовал себя обделенным и неприкаянным.
Рассказ увел меня далеко от дома, прямо под палящее солнце, и, пока его не хватил тепловой удар или не поглотил коварный мираж, спрячу его подальше… Много-много лет спустя, уже на закате жизни Омар-Хайама (будущее, как вода сквозь песок, так и норовит просочиться в прошлое), имя моего героя замелькало во всех газетах в связи с нашумевшими убийствами – убитых находили непременно с оторванной головой! Тогда-то дочка таможенного чиновника Фарах Родригеш и вытащила из кладовой памяти случай, который произошел с Омар-Хайамом в отрочестве. Уже в ту пору он был неопрятным толстуном – на рубашке (на уровне пупка) недоставало пуговицы. И однажды он сопроводил тогда еще юную Фарах на пограничный пост милях в сорока к западу от города. Рассказывала Фарах об этом в подпольном питейном заведении, обращаясь ко всем сразу, сопровождая рассказ смехом – некогда хрустально-переливчатым, теперь же – колюче-шершавым, как битое стекло (видно, сказались время и воздух пустыни).
– Вы не поверите, но я клянусь честью! – приступала она. – Не успели мы вылезти из джипа, как откуда ни возьмись облако и садится прямо на пограничную полосу, словно визы дожидается! Так Шакиль до смерти перепугался, даже сознание потерял. Голова пошла кругом, и вот он уж себя не помнит, хотя стоит на твердой земле. Необъяснимое головокружение (“стою на краю, вот-вот сорвусь”) проклятием преследовало Омар-Хайама даже в его звездный час, когда он женился на дочери Хайдара, а сам Хайдар стал президентом. Одно время Омар-Хайам водил бражную дружбу с богатым повесой Искандером Хараппой, политиком самых левацких взглядов, потом – премьер-министром, потом (уже после смерти) – чудотворящим духом. И как-то, уже изрядно под хмельком, наш герой разоткровенничался с другом:
– Ну что я за человек! Даже в собственной жизни мне главной роли не сыграть. Так меня вырастили – белый свет только в окошко показывали. А теперь вот расплачиваюсь.
– Что-то уж больно мрачно ты на жизнь смотришь, – изрек Искандер Хараппа.
Растили Омар-Хайама ни много ни мало три матери, без единого отца в обозримом пространстве и времени. Загадка, да и только! И к ней добавилась еще одна: Омар-Хайаму шел двадцатый год, когда у него родился брат – очередной плод коллективного творчества трех матушек. Как и в первый раз, все было разыграно словно по нотам. Но задолго до этого не меньшей занозой разбередила душу Омара первая любовь. Неуклюже переваливаясь, тучный юноша тенью следовал за сколь желанной, столь и недоступной некоей Фарах Заратуштрой. Ухаживать за ней пытались едва ли не все окрестные парни, но только один Омар-Хайам, живший словно в коконе, не знал, не ведал, что былые воздыхатели рассудили так: “За Фарах увяжешься – в дураках окажешься”, и называли ее “Конец света”.
Подведем итоги: страдает обмороками и неприкаянностью; увлечен девушкой и звездами; мучается от кошмарных снов и ожирения. Ну разве это герой?
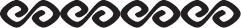
2
Башмачная гирлянда

Примерно через месяц после входа русских войск в Афганистан я приехал домой: повидать родителей и сестер да похвастать своим первенцем. Живут мои родные в районе “Заставы” – так именуется жилищно-кооперативное общество пакистанской армии, – хотя военных у меня в роду нет. Просто “Застава” – престижный район Карачи. Офицерам земля там выделяется почти даром, только построить дом не каждому по карману. А продать пустующий участок не разрешается. Попробуйте-ка построить дом на офицерском участке, и вас ждет замысловатейший контракт: владельцу земли вы платите за нее по рыночной цене, однако земля остается его собственностью. А вам отводится роль этакого славного малого, по доброте душевной одарившего неимущего офицера круглой суммой (надо же и ему свить себе гнездо). Чтобы построить дом по своему вкусу, вы потратите еще кучу денег, и тут новая закавыка: по контракту землевладелец должен назвать еще “третье лицо”, так сказать, полномочного распорядителя вашей будущей недвижимостью. Выбирать это “третье лицо” вам, и ему, собственно, остается поздравить вас с новосельем, когда строители уберутся восвояси. Итак, вам дважды приходится являть добросердечность и щедрость. По принципу “ты – мне, я – тебе” и застраивалась вся “Застава”. Не правда ли, яркий пример беззаветного, жертвенного служения ближнему ради общей цели?
Обставлялось все тонко – комар носа не подточит. Хозяин участка богател, “третье лицо” получало комиссионные, а вы – новый дом. Но главное – не обойден ни один закон! Излишне говорить, что никто не допытывался, по какому праву самый лакомый кусок городских земель застраивается подобным образом. И вообще, не в правилах жителей “Заставы” проявлять любопытство. А потому – от сонмища незаданных вопросов не продохнуть. Хотя их зловоние тонет в благоухании садов, аромате цветущих на бульваре деревьев, в запахе дорогих духов местных светских львиц. Населяют “Заставу” дипломаты, заправилы международных фирм, сыновья канувших в Лету диктаторов, модные певички, текстильные магнаты, звезды крикета – эти халифы на час. Район кишмя кишит японскими машинами. А о том, что “Застава” некогда начиналась как офицерский городок и для легковерных слыла символом взаимовыгодного сотрудничества властей гражданских и военных, в городе уже давным-давно забыли. Осталось одно лишь название.
Как-то вечером, вскорости после приезда, я отправился в гости к своему старинному знакомцу – поэту. Я ожидал долгую, неспешную беседу, мечтал услышать, что подумывает мой друг о недавних событиях в Пакистане и, конечно же, в Афганистане. Как и всегда, в доме у него было полно гостей. Странно, толковали лишь о крикетных матчах между Пакистаном и Индией. Мы с другом уселись за стол и начали легкую шахматную партию. Мне, разумеется, не терпелось расспросить его, и поподробнее, о жизни. В конце концов, что пришло на ум, о том я и спросил: что он думает о казни Зульфикара Али Бхутто. Увы, договорить вопрос мне было не суждено, он так и приобщился к сонму незаданных собратьев. А я получил пинок под столом. Сдержав стон, я тут же переключился на спортивные темы. Еще мы говорили о повальном увлечении видеотехникой.
На смену одним гостям приходили другие, люди собирались кучками, смеялись. Минут через сорок мой приятель вдруг сказал:
– Ну все, теперь можно.
– Так кто же стукач? – догадливо спросил я.
Друг назвал осведомителя, затесавшегося именно в этот круг. Про него все знали, но никто и вида не подавал (иначе он бы просто исчез, и поди потом гадай, кого прислали на его место). Мне довелось увидеть его еще раз: славный малый, судя по речи, образованный, с открытым лицом. Не сомневаюсь, он бывал рад-радешенек, когда не находил в беседе “компромата”. И волки сыты, и овцы целы. И снова я поразился, до чего ж много в Пакистане “славных малых” и каким пышным цветом распустилась в благоуханных садах благовоспитанность.
Пока меня не было в Карачи, мой друг-поэт успел отсидеть немало месяцев в тюрьме – поплатился за свои связи. Точнее, приятельница его знакомого оказалась женой двоюродного брата троюродного дядюшки одной особы, которая, по слухам, сожительствовала с парнем, переправлявшим оружие повстанцам в Белуджистан. Да, в Пакистане по знакомству возможно все, даже угодить за решетку. И по сей день друг ни словом не обмолвился о том, что пережил в тюрьме. От других узнал я, что вернулся он из заключения совсем больным и долго шел на поправку. Говорят, его подвешивали вверх ногами и били. Новорожденных тоже подвергают подобной процедуре, чтоб заработали легкие и младенец закричал. Я не спрашивал друга, кричал ли он и виделись ли ему в окно опрокинутые горные вершины.
Куда ни повернись, всюду что-то постыдное! Но поживешь бок о бок со стыдом и привыкнешь, как к старому креслу или комоду. В “Заставе” стыд гнездится в каждом доме: искоркой в пепельнице, картиной на стене, простыней на постели. Но никто ничего не замечает. Мы же благовоспитанные люди!
Возможно, моему другу больше пристало сочинить эту книгу, точнее, и сочинять бы ничего не пришлось – хватило бы рассказа о своей жизни. Но с той поры он больше не пишет стихов. И вот приходится выступать мне и рассказывать о чужой жизни. Моему герою, прошу отметить, уже довелось повисеть вверх ногами; назвали его в честь великого поэта, хотя сам он за всю жизнь не сложит и четверостишия. Чужак! На что посягаешь! Ты не имеешь права касаться этой темы!.. Да, знаю, я в тюрьме не сидел и вряд ли когда сяду. Отщепенец! Узурпатор! Нам твоя писанина не указ! Нас не проведешь: даже твой ядоточивый язык и то иноземный, это уже твоя плоть и кровь! Что ты, переметная сума, можешь рассказать о нас? Ложь и только ложь!
А я спрошу в ответ: неужто история – исключительная собственность ее действующих лиц? В каких судах на нее заявляют права? В каких высоких инстанциях определяют границы застолбленных участков?
Неужто право голоса получают только мертвые?
Себе я говорю, что роман этот – мое прощальное слово о Востоке, от которого годы все больше отдаляют меня. Но подчас мне трудно поверить этим словам, ведь Восток – хочу я или нет – край, к которому я привязан, пусть и некрепко.
Касательно Афганистана: вернувшись в Лондон, я разговаривал на приеме с неким высоким дипломатическим чином, по долгу службы занимавшимся моим “регионом”. Он сказал, что “в свете последних афганских событий” Западу ничего не остается, как поддерживать диктатуру президента Зия-уль-Хака. Мне б сдержаться, но я возмутился. А что толку? Жена дипломата, сдержанная, благовоспитанная дама, примирительно воркуя, пыталась меня утихомирить, а потом, уже выходя из-за стола, спросила:
– Скажите, а почему бы пакистанцам не убрать Зия? Ну, вы сами понимаете, как это делается…
Да, дорогой читатель, стыдно бывает не только за людей с Востока!
Рассказ мой не о Пакистане. Или почти не о Пакистане. Есть две страны, вымышленная и реальная, и занимают они одно и то же пространство. Или почти одно и то же. Рассказ мой, как и сам автор, как и вымышленная им страна, находятся словно бы за углом действительности. И там им и место, по моему разумению. А плохо ли это или хорошо – пусть судят другие. Мне думается, что пишу я все же не только о Пакистане.
Названия своей стране я не придумал. И город К. – вовсе не Кветта. Но без конца жонглировать вымышленными названиями не хочу: окажись я в большом городе, назову его Карачи. С непременной “Заставой”.
Положение Омара Хайама в поэзии своеобычно. В родной Персии он так и не снискал известности; на Западе же стихи его читают в переводах, отличных от оригинала по духу, не говоря уж о содержании. Собственно, я ведь тоже перевезен в иную среду. А общепризнанно, что любой перевод что-то теряет. Но и приобретает, добавлю от себя, памятуя об успехе фитцжеральдовских переводов Хайама.
– Мой несравненный телескоп подарил мне тебя! – так объяснялся Омар-Хайам Шакиль в любви к Фарах Заратуштре. – Это твой образ дал мне силы вырваться из матушкиной тюрьмы.
– Тебе б только подсматривать! – фыркнула его милая. – Насрать мне на твою любовь! Не рано ль эта любовь у тебя в штанах зашевелилась? И чего там у тебя с матушками, меня не колышет!
Была его избранница двумя годами старше и стократ похабнее в разговоре. Омар-Хайаму скрепя сердце пришлось это признать.
Кроме имени великого поэта наш герой унаследовал и фамилию матушек. И, как бы подчеркивая, что сын неспроста носит бессмертное имя, сестры свою мрачную домину с лабиринтом коридоров – единственную свою недвижимость – назвали соответственно: Нишапур[2].
Итак, еще один Омар-Хайам, еще один Нишапур. Сколько раз ловил на себе юный Омар испытующий взгляд матушек: что ж ты, поторапливайся, мы ждем твоих стихов. Однако, как я уже говорил, рубаи так и не вышли из-под его пера.
Детство у нашего героя выдалось, прямо скажем, бесподобное: ведь всем законам, распространявшимся на затворниц-матерей, безоговорочно подчинялся и мальчик. Двенадцать долгих, определивших его характер лет провел он узником в четырех стенах, в обособленном мирке, который ни материальным, ни духовным не назвать – лишь скопище ветхозаветных теней одного и другого. И в этом затхлом и тесном мирке Омар-Хайаму суждено было вдыхать (вместе с запахом нафталина, плесени и запустения) нестойкие ароматы былых замыслов и забытых грез. Матушки очень точно все рассчитали: сначала хлопнули дверью, а потом навечно замкнули ее. И оттого в доме возобладало, как зной, гнетущее энергетическое поле, хотя и щедро удобренное перегноем прошлого, но не сулящее никаких новых всходов. И сызмальства Омар-Хайам лелеял лишь одну мечту – поскорее сбежать из Нишапура.
Томясь в своей темнице, пределы которой терялись во мраке, чувствуя, что задохнется и пропадет, Омар-Хайам тщетно искал выхода. Невдомек ему было, что обманчивая кривизна времени и пространства приведет самого настырного и выносливого марафонца – обессилевшего, со стертыми ногами и судорогой сведенными мышцами – опять к стартовой черте. Да, на бесплодной, изъязвленной временем почве особняка-лабиринта пробился новый всход.
Вы, разумеется, слышали о детях, найденных в волчьем логове, выпестованных многочисленными лохматыми кормилицами, что воют по ночам на луну. Спасатели-люди отлучали детей от стаи, и в награду им доставались укусы на руках. Найденышей сажали в клетки, и просвещенному и освобожденному человечеству представали среди вони испражнений и тухлого мяса существа ущербные, не способные постичь и основ культурного бытия. Омар-Хайаму тоже досталось чересчур много кормилиц. И ему довелось четыре тысячи дней провести в непроходимых джунглях родного Нишапура, в этой стихии за четырьмя стенами. Наконец удалось раздвинуть пределы темницы: в его день рождения матушки исполнили его заветное желание, и никакие соблазны, доставленные подъемником мастера Якуба, с ним не сравнить!
– Ты свои дикарские замашки брось! – осадила его Фарах, когда он было дал волю чувствам. – Ишь, руки распустил, ты ж не обезьяна дикая!
Так сказать, с точки зрения биологии она подметила все верно, но как раз Омарову-то дикость она и не оценила умом, зато вскоре познала телом.
Вернемся к главному: двенадцать лет Омар ни в чем, кроме свободы, не знал отказа. Рос он баловнем, хитрюгой и плаксой. Стоило ему заорать, и матушки спешили приласкать сынулю. Но вот его начали мучить кошмарные сны, спать он стал меньше, а по ночам, как первопроходец-путешественник, забирался все глубже в дебри бескрайнего царства рухляди и паутины. Поверьте на слово, порой его сандалии утопали в пыли нехоженых коридоров; он натыкался на порушенные давними землетрясениями лестничные пролеты – некогда ступеньки вздыбились острыми горными вершинами и рухнули в черную пропасть, куда и заглянуть страшно…
И в безмолвии ночи, и в предутренних шорохах шел Омар все дальше, вглубь самой истории, разглядывая поистине музейные диковинки Нишапура. Под его пытливыми пальцами распахивались шкафы, открывались комоды, выставляя напоказ древние расписные кувшины и горшки в индийском стиле Кот-диджи; или вдруг он набредал на кухни и кладовки, о которых раньше и не подозревал, и недоуменно смотрел на блестящую бронзовую утварь тоже бог весть каких времен; а то вдруг ему открывались заброшенные покои (некогда землетрясением там разрушило сточную систему), и мальчик забирался в развороченные колодцы и лазил по хитросплетению каменных желобов (в те доисторические времена еще не знали труб).
Однажды Омар-Хайам даже заблудился. Он исступленно метался по закоулкам – так, наверное, путешественник во времени, лишившись своей чудесной машины, страшится навечно затеряться в пучине истории – и вдруг замер в ужасе на пороге комнаты: сквозь разваленную стену к нему тянулись толстые древесные корни-щупальца, словно умоляя напоить. Было ему в ту пору лет десять, и вот тогда-то в первый раз он увидел белый свет без оков и уз. Стоило только шагнуть в пролом, и… Но столь неожиданное чудо застало его врасплох. Уже занимался рассвет, и Омар-Хайам в страхе повернул вспять, назад в свои надежные покои. Потом, когда страхи унялись и он все хорошенько обдумал, мальчик попытался повторить ночное путешествие, даже запасся мотком веревки… Увы, и с помощью этой ариадниной нити не смог он найти в хитроумном лабиринте своего детства обиталище запретного рассветного Минотавра.
– Иногда я даже скелеты находил, – клялся он недоверчивой Фарах, – и человечьи, и звериные.
Но даже там, где скелетов не было, казалось, пращуры нынешних хозяек неотступно следовали за мальчиком. Нет, они не выли, не гремели цепями, как надлежит настоящим привидениям, а витали вокруг, испуская тлетворный запах копившихся издревле чувств: надежды, страха, любви. Эти призраки подстерегали Омар-Хайама в потайных уголках запущенного дома и полновесной прародительской пятой давили на мальчика. И вот, не выдержав, Омар-Хайам, вскоре после потрясения у разрушенной стены, отомстил своему противоестественному окружению. Отомстил дико, по-варварски – даже рассказывая об этом, хочется крепко зажмуриться. Вооружившись шваброй и похищенным топориком, он вихрем пронесся по грязным коридорам и причудливо убранным спальням, сокрушил на пути стеклянные шкафчики, подернутые пылью забвения диваны; обратил в прах древние, изъеденные червем фолианты; досталось и хрусталю, и картинам, и старинным ржавым шлемам; он нанес смертельные увечья бесценным шелковым, тонким, как бумага, гобеленам.
– Вот вам! Получайте! – вопил он среди бездыханных жертв – немых свидетелей его детства, насладившись бессмысленной жестокостью. – Поделом, старье вонючее! – И вдруг, вопреки всякой логике, уронил смертоносное орудие и столь исполнительную швабру и горько расплакался.
Надо сказать, что в ту пору никто не верил рассказам мальчика о том, что дом – без конца и края.
– Дитя и есть дитя, – усмехалась Хашмат-биби, – чего только не придумает!
Подшучивали над Омаром и слуги:
– Послушать тебя, сынок, на всем белом свете, кроме нашего дома, места ни для чего не хватит!
А три матушки, сидя на любимом диване-качалке, преспокойно выслушивали все рассказы, гладили сына по голове и однажды подвели итог.
– У мальчика богатое воображение, – определила средняя мама Муни.
– Неспроста он такое имя носит, – подхватила мама Бунни.
А мама Чхунни встревожилась, не гуляет ли мальчик по ночам во сне. И приказала слуге спать у порога комнаты Омар-Хайама.
Но к тому времени мальчик сам запретил себе наведываться в дразнящие воображение уголки Нишапура. После жестокой расправы над прошлым (ни дать ни взять, волк, точнее, волчий выкормыш в овчарне) Омар-Хайам Шакиль счел за благо появляться только в обжитых покоях.
Некое чувство – возможно, пробудившаяся совесть – привело его в дедов кабинет с темными деревянными панелями и множеством книг. Сестры Шакиль не наведывались туда со дня отцовой смерти. Там-то внук и обнаружил, что дедова ученость – миф, равно и его якобы острый, деловой ум. На всех книгах значился экслибрис некоего полковника Артура Гринфилда, многие страницы так и остались неразрезанными. Когда-то библиотека принадлежала этому господину, и старый Шакиль закупил ее, так сказать, оптом, а потом за долгие годы не удосужился открыть ни одной книги. Зато юный Омар-Хайам набросился на них с жадностью.
Пора воздать должное Омаровым способностям к самообучению. Когда он покинул стены Нишапура, он уже владел классическим арабским и персидским языками, не считая латыни, французского и немецкого. И все – с помощью лишь словарей да книг лжеученого гордеца деда! Чем только не зачитывался мальчик! Богато иллюстрированными стихами Талиба, многотомными письмами к сыновьям Великих Моголов, бертоновскими переводами “Тысячи и одной ночи”, “Путешествиями” Ибн Баттуты, приключениями сказочного Хатема Тайского… Да-да, вот и отходит прочь (“Прочь!” – это уже из обращения Фарах к нашему герою) несостоятельный образ дитяти джунглей, Маугли.
Тем временем с помощью подъемника из дома в лавку ростовщика беспрерывно переправлялись самые разнообразные вещи, а за ними открывались новые сокровища, доселе сокрытые в залежах хлама. Огромные комнаты, до потолка набитые всякой всячиной – наследством многочисленных стяжателей-предков – мало-помалу пустели, так что на одиннадцатом году жизни маленькому Омару уже не мешали резвиться бесчисленные шкафы и комоды. Настал день, и матушки послали слугу в отцовский кабинет – они решили, что отныне смогут обойтись без ширмы каштанового дерева с тончайшей резьбой: на священную круглую гору Каф слетелись тридцать птиц, искавших божественную истину. Когда птичье собрание убралось из дома, взгляду Омар-Хайама предстал маленький книжный шкаф, набитый томами по теории и практике гипноза: санскритские мантры, трактаты персидских мудрецов, книга финского эпоса “Калевала” (в кожаном переплете), опыты преподобного Гаснера по изгнанию духов с помощью гипноза, анализ теории “животного магнетизма” самого Франца Месмера, а также (что, пожалуй, оказалось самым ценным) несколько дешевых самоучителей. Мигом проглотил их Омар-Хайам; только эти книги из всей дедовой библиотеки не были когда-то достоянием начитанного полковника, только они – подлинное дедово наследство, и только им суждено на всю жизнь вовлечь Омара в столь загадочную и страшную науку – ведь ей подвластны силы добра и зла.
У домашней прислуги занятий находилось едва ли больше, чем у юного хозяина – с годами матушек все меньше и меньше заботили чистота в доме и вкусная пища. Нетрудно догадаться, что трое слуг оказались первыми и добровольными участниками Омаровых опытов. Юный гипнотизер сосредоточивал их внимание на блестящей монетке и подчинял своей воле. У Омара обнаружился талант, чем он немало гордился. Ровно и спокойно приговаривая, он вводил своих подопечных в транс и выслушивал бессознательные, но любопытные исповеди. Слуги, в частности, поведали секреты своей половой жизни. Оказалось, что в отличие от хозяек, у которых после рождения ребенка угасли некоторые естественные потребности, мужчины не отказались от радостей земных, даря ласки друг другу и благословляя хозяек за то, что, отказав слугам в свободе, те открыли подспудные желания, снедавшие всех троих мужчин. Их взаимная любовь как бы дополняла не менее сильную взаимную (хотя и платоническую) привязанность сестер. И все же в хороводе этих дружб и симпатий Омар не становился мягче и добрее.