
Портрет Дориана Грея
Скепсис и мечтательность, романтика и насмешливое недоверие к любой восторженности – такое сочетание выглядело, должно быть, самым большим парадоксом из всех, которые прочно срослись с представлением об Уайльде. Но таким он и был – ироничным романтиком, романтически настроенным скептиком. Автором неподражаемых книг, среди которых его единственный роман остается самой значительной и известной.
«Портрет Дориана Грея» был напечатан в 1890 году. Это наиболее бестревожный период в биографии Уайльда. Сказки и необыкновенно остроумные комедии уже составили ему литературное имя: его знают повсюду в Европе. Репутация денди еще не сделалась постыдной славой аморалиста, по большей части на Уайльда смотрят просто как на чудака.
Заботы о благоденствии семьи заставляют его принять на себя обязанности редактора дамского журнала, которому Уайльд старается придать хороший уровень. Семья поначалу кажется на редкость счастливой. Через несколько лет, когда разразится скандал, Констанцию Уайльд вынудят порвать с мужем, и он никогда больше не увидит двух своих сыновей. Кстати, сказки он написал для них.
В обществе Уайльд все чаще появляется вместе с лордом Элфредом Дугласом, юношей поразительной внешности. Никто еще не догадывается, что их дружба станет поводом для самых грязных намеков и сплетен. Что письмо, написанное с обычной для Уайльда поэтической приподнятостью, будет фигурировать в качестве главной улики на суде, куда Дуглас так и не явился. Что обожаемый Бози, как его называли в своем кругу, не окажет никакой поддержки ни узнику Редингской тюрьмы, ни изгнаннику, мучительно угасавшему в жалком парижском пансионе.
Лорд Дуглас был законченным денди, воплощением того человеческого типа, который прошел через многие произведения Уайльда. Чаще всего он представал в комическом освещении. Так было в двух пьесах, имевших огромный сценический успех, – «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». Уайльд говорил, что несложно прославиться в качестве театрального автора: для этого достаточно навыка «подмечать серьезное в любых пустяках и пустячное во всем серьезном». Слово «серьезный», стоящее в заглавии комедии, которая вот уже более века не сходит со сцены, виртуозно обыграно: по-английски есть так же звучащее мужское имя, а героиня и слышать не желает о муже, которого звали бы по-другому. Возникает много недоразумений, персонажи проявляют замечательную находчивость, при этом сохраняя все отличительные свойства денди, и дело кончается свадебными колоколами.
В романе все совершенно не так, и преобладающая тональность сумрачная, чтобы не сказать – трагическая. Никто из современников не ожидал от Уайльда книги, столь мало отвечающей его известности блистательного, но неглубокого остроумца. Решили, что книга, во всяком случае, для него нетипична. А между тем у нее немало общего с другими его произведениями, особенно со сказками. И дело не только в том, что «Портрет Дориана Грея» тоже построен на условном, фантастическом сюжете.
Персонажи сказок меняются. В «Счастливом принце» они еще не знают сложностей жизни и, как ни печально приобщение к истинам, мир для них окрашен поэзией и радостью. Ничего этого не остается в «Гранатовом домике». Там все предопределено, там властвует судьба, и она беспощадна.
Этот путь от простодушия к познанию у нас на глазах совершается в «Дориане Грее». И, по словам самого Уайльда, «очень многое скрыто в той теме Рока, которая красной нитью вплетается в золотую парчу» книги.
Рок становится возмездием, оно неотвратимо настигает героя, признавшего наслаждение высшей целью жизни и посвятившего себя погоне за наслаждением, ничему другому. Метафора портрета, центральная в романе, только кажется прозрачной. На самом деле в нее вложен глубокий и не всегда очевидный смысл.
За несколько десятилетий до Уайльда Оноре де Бальзак опубликовал философскую притчу «Шагреневая кожа». Там описана история молодого аристократа, завладевшего покрытым старыми письменами куском кожи, которая обладает магической способностью исполнять все, что ни пожелает владелец. Однако при этом она сжимается все больше и больше: каждое исполнившееся желание приближает роковой конец. И в ту минуту, когда у ног героя лежит, ожидая его повелений, чуть ли не весь мир, выясняется, что это никчемное свершение. Остался лишь крохотный лоскуток всесильного талисмана, а герой теперь «все мог – и не хотел уж ничего».
Бальзак рассказал грустную повесть о растлении легко обольщающейся души. Во многом его рассказ отзывается на страницах Уайльда, однако сама идея возмездия приобретает более сложный смысл.
Это не возмездие за бездумную жажду богатства, которое было синонимом могущества, а значит, своей человеческой состоятельности для Рафаэля де Валантена. Скорее, надо говорить о крахе исключительно притягательной, но все-таки в основании своем ложной идеи, о дерзком порыве, не подкрепленном нравственной твердостью. Тогда сразу возникают другие литературные параллели: уже не Бальзак, а Гёте, его «Фауст» в первую очередь. Очень соблазнительно отождествить Дориана с доктором-чернокнижником из старинной легенды. А Мефистофелем предстанет лорд Генри, тогда как Сибилу Вэйн можно будет воспринять как новую Гретхен.
Но, пожалуй, это слишком прямолинейная трактовка. Да и фактологически она не вполне точна. Известно, как возник замысел романа, – не из чтения, а из непосредственных впечатлений. Однажды в мастерской приятеля-живописца Уайльд застал натурщика, показавшегося ему самим совершенством. И воскликнул: «Какая жалость, что ему не миновать старости со всем ее уродством!» Художник заметил, что готов переписывать начатый им портрет хоть каждый год, если природа удовлетворится тем, что ее разрушительная работа будет отражаться на полотне, но не на живом облике этого необычайного юноши. Дальше вступила в свои права фантазия Уайльда. Сюжет сложился как бы сам собой.
Это не значит, что Уайльд вовсе не вспоминал о предшественниках. Но действительно, смысл романа не сводится к опровержению той «глубоко эгоистической мысли», пленившей обладателя шагреневой кожи Рафаэля. Он иной и при сопоставлении с идеей, безраздельно владеющей Фаустом, который не желает оставаться земляным червем и жаждет – хотя не может – сравняться с богами, вершащими будущее человечества.
У героев Уайльда нет таких притязаний. Они всегда только хотели бы сохранить юность и красоту непреходящими – вопреки безжалостному закону естества. И это менее всего было бы благодеянием для человечества. Дориан, а тем более лорд Генри – олицетворенный эгоцентризм. Думать о других они попросту не способны. Оба достаточно ясно представляют себе, что вдохновивший их замысел нереален, но восстают против самой этой эфемерности или, по меньшей мере, не желают принять ее во внимание. Есть только культ юности, утонченности, искусства, безупречного художественного чутья, и не имеет значения, что реальная жизнь бесконечно далека от искусственного рая, который они вознамерились для себя создать. Что в этом Эдеме как бы отменены критерии морали. Что он, в сущности, только химера.
Когда-то эта химера обладала неоспоримой властью и над Уайльдом. Он тоже хотел вкусить всех плодов, произрастающих под солнцем, и не заботился о цене такого познания. Но все равно оставалось существенное различие между ним и его персонажами. Да, писатель, подобно своим героям, был убежден, что «цель жизни состоит не в том, чтобы действовать, а в том, чтобы просто существовать». Однако, высказав эту мысль в одном эссе, тут же уточнил: «И не только существовать, а меняться». Вот с этой поправкой сама идея становится совсем не той, как ее понимают и Дориан, и лорд Генри. Ведь они хотели бы нетленной и застывшей красоты, и портрет должен был служить ее воплощением. Но оказался он зеркалом изменений, которых Дориан так страшился. И не мог избежать.
Как не смог он избежать и необходимости судить о происходящем по этическим критериям, сколько бы ни говорилось об их ненужности. Убийство художника остается убийством, а вина за гибель Сибилы остается виной, как бы, с помощью лорда Генри, ни пытался Дориан доказать себе, что этими действиями он лишь оберегал прекрасное от посягательств грубой прозы жизни. И в конечном счете от его выбора зависели итоги, оказавшиеся катастрофическими.
Предпосланная роману страница афоризмов имела для Уайльда почти губительные последствия. Никто не проявил готовности вникнуть в его аргументы, да они и правда были изложены так, что неизбежными становились кривотолки. «Искусство чуждо морали, – заявлял он и шел еще дальше: – Всякое искусство совершенно бесполезно». Как тут было не возмутиться ревнителям полезности и назидательности?
Но они напрасно растрачивали свой обличительный пыл. Если вникнуть в смысл злоключений, испытанных главным героем книги, окажется, что Уайльд создал притчу, наделенную глубоким этическим содержанием. А если при этом он и говорил, что с моралью искусство не связано, то лишь желая покончить с ходячими суждениями о поступках героев, да еще выраженными очень прямолинейно, в лоб, как будто речь идет не о персонажах романа, а о неприятных соседях или о напроказивших юнцах с соседней улицы. Искусство он считал не подчиняющимся морали, но как бы создающим истинную мораль – благодаря тому, что в искусстве явлен пример совершенства, которого не приходится искать в реальной жизни. Оно представляет собой настолько высокий образец, что каждый, кто служит или хотя бы поклоняется ему, тем самым накладывает на себя серьезную обязанность – быть достойным эталона.
Дориан к совершенству стремился, но не достиг. Его банкротство осмыслено как крушение себялюбца. И как расплата за отступничество от идеала, выражающегося в единстве красоты и правды. Одна невозможна без другой – роман Уайльда говорит именно об этом. А критика сочла, что он восславляет аморальность.
Нечастый случай полной художественной слепоты! Но понадобились десятилетия, чтобы переломить инерцию таких мнений. Рецензии на «Дориана Грея» были затребованы прокурором, который с их помощью доказывал порочность человека, способного написать настолько постыдную книгу. Сегодня это кажется курьезом. Для Уайльда это было тяжелой драмой.
Из тюрьмы он вышел сломленным, измученным человеком, в котором не осталось и следа от щеголеватого лондонского денди, наделенного ярким, но, как полагали, пустым или даже опасным дарованием. Он утверждал, что не в состоянии оглядываться на собственное прошлое, до того оно ему непереносимо. Он говорил, что навсегда покончил с литературой. «Мне незачем писать, – сказал он одному из сохранившихся друзей, – потому что я постиг значение жизни. А писать о ней нельзя, ею можно только жить».
Но даже и на то, чтобы «только жить», у него не оставалось сил. Началась агония, воссозданная скупыми свидетельствами людей, оставшихся рядом с ним в последние месяцы и видевших этот печальный закат. Предательство тех, кому он бездумно доверял, нищета, травля, лицемерные вздохи над погубленным талантом и страхи, вызываемые его «растлевающим влиянием», едва скрытое торжество гонителей, узнавших, что его дни сочтены, – вот как завершался его путь.
В предисловии к «Дориану Грею» было сказано о ярости Калибана, которого заставили увидеть свой истинный облик. У Шекспира в «Буре» Калибан олицетворяет силу косную и злую. Она не исчезла, а, наоборот, только окрепла в доставшийся Уайльду лицемерный век. Но он верил, что искусство, подобно шекспировскому Просперо, сумеет совладать с этой силой, укротить ее, какие бы бури ни приходилось выдержать творцам истинной красоты.
Судьба Уайльда убеждает, что это была лишь благородная иллюзия. Век не переменился, и даже само искусство не обрело свободы от гнета действительности, внушавшей такое горькое чувство всем, кто не обманывался видимым благополучием, чутко распознавая за этим фасадом обезличенность и пустоту.
Заново сотворить человека, переменив его отношение к миру, в котором художник обнаруживает никем до него не замеченные ценности и смыслы, – такое едва ли под силу даже гению. Но если бы Оскар Уайльд ставил перед собой цели более скромные и традиционные, сама жизнь стала бы в чем-то беднее, лишившись его уникальных книг.
А. Зверев
Портрет Дориана Грея[1]
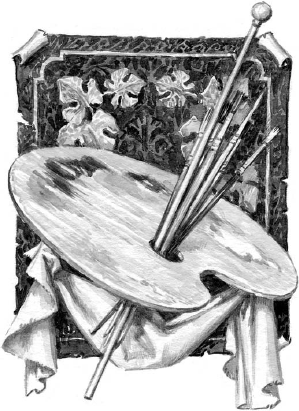
Предисловие
Художник – тот, кто создает прекрасное.
Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство.
Критик – это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.
Высшая, как и низшая, форма критики – один из видов автобиографии.
Те, кто в прекрасном находят дурное, – люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.
Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, – люди культурные. Они не безнадежны.
Но избранник – тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.
Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.
Ненависть девятнадцатого века к Реализму – это ярость Калибана[2], увидевшего себя в зеркале.
Ненависть девятнадцатого века к Романтизму – это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.
Для художника нравственная жизнь человека – лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства – в совершенном применении несовершенных средств.
Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.
Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.
Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать всё.
Мысль и Слово для художника – средства Искусства.
Порок и Добродетель – материал для его творчества.
Если говорить о форме, – прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве – искусство актера.
Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.
Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.
И кто раскрывает символ, идет на риск.
В сущности, Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.
Если произведение искусства вызывает споры, – значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.
Пусть критики расходятся во мнениях, – художник остается верен себе.
Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.
Всякое искусство совершенно бесполезно.
Оскар Уайльд
Глава I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.
С покрытого персидскими чепраками[3] дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника – его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков, – и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.
Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд[4], чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.
Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.
– Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, – лениво промолвил лорд Генри. – Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор[5]. В академию не стоит: академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место – это Гровенор.
– А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, – отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. – Нет, никуда я его не пошлю.
Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.
– Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.
– Знаю, ты будешь надо мною смеяться, – возразил художник, – но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет… Я вложил в него слишком много самого себя.
Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.
– Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.
– Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом[6], словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он – Нарцисс[7], а ты… Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии – как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, – но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, – естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, – значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он – безмозглое и прелестное Божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, – чтобы радовать глаза, а летом – чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.
– Ты меня не понял, Гарри, – сказал художник. – Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое – точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, – без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки… Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея – его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.
– Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? – спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.
– Да. Я не хотел называть его имя…
– Но почему же?
– Как тебе объяснить… Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь – я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им – и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?
– Нисколько, – возразил лорд Генри. – Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, – а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, – мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.
– Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. – Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного – и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм – только поза.
– Знаю, что быть естественным – это поза, и самая ненавистная людям поза! – воскликнул лорд Генри со смехом.
Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.
Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.
– Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, – сказал он. – Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.
– Какой вопрос? – спросил художник, не поднимая глаз.
– Ты отлично знаешь какой.
– Нет, Гарри, не знаю.
– Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея? Я хочу знать правду.
– Я и сказал тебе правду.
– Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!
– Пойми, Гарри. – Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. – Всякий портрет, написанный с любовью, – это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.
Лорд Генри расхохотался.
– И что же это за тайна? – спросил он.
– Так и быть, расскажу тебе, – начал Холлуорд как-то смущенно.
– Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, – настаивал лорд Генри, поглядывая на него.
– Да говорить-то тут почти нечего, Гарри… И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.
Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.
– Я совершенно уверен, что пойму, – отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. – А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.
Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза… Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.
– Ну, так вот… – заговорил художник, немного помолчав. – Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.