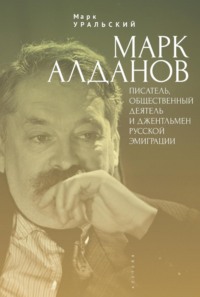
Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции
В частности, своих противников из лагеря социалистов г. Ленин всегда ненавидел больше, чем служителей самодержавного строя.
Надо отдать справедливость лидеру большевиков: он не церемонится и со своей братией, когда последняя осмеливается выходить из-под ферулы учителя. Неподражаема его гневная статья147 о г. Зиновьеве, испытавшем мучительные минуты колебания перед вооруженным выступлением 25 октября. Совершенно так же честил Аввакум ученика, который как-то пошел против его воли: «Не помышляй себе того, дурак, еже от Бога тебя, кроме покаяние, помеловану быти… Да приидет на тя месть Каинова, и Исавового, и Саулова, да пожрет тебя огнь што содомян, аще не сазришь душит своей треокоянной! Кайся, трехглавый змий, кайся, собака дура!» Аввакумова ученик, как и г. Зиновьев, действительно немедленно покаялся.
<…>
Протопоп царя Алексея Михайловича тоже не жаловал буржуазию: «любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси и рафленые куры: Вот тебе в то место жару в горло, губитель души своей окаянной… Плюнул бы ему в рожу-то и в брюхо-то толстое ногою». Весьма вероятно, что Аввакум стоял бы теперь за додушение буржуазии и за отправку капиталистов «на шесть месяцев в рудники».
Зато в отношении свободы слова протопоп был, при всей своей ненависти к латынникам, много либеральнее г. Ленина.
<…>
Гражданин, примыкавший когда-то к меньшевикам-интернационалистам, не то к объединенным социал-демократам <…>, убедительно доказывал мне губительность большевистских действий для России, Европы, человечества, свободы, демократии и социализма. Я совершенно с ним соглашался.
– Какой же выход из положения при создавшейся конъюнктуре? – спросил он.
Я отвечал, как умел. Medicamenta, наверное, non sanant. Может быть, ferrum sanat?148
– Ни в коем случае! – ужаснулся он. – Социализм погибнет, если они будут раздавлены силой.
В этом тоже была небольшая доля правды (правда, очень небольшая). Тем не менее я счел возможным напомнить объединенному меньшевику следующий эпизод из жизни Бодлера, рассказанный Анатолем Франсом:
«Знакомый поэта, морской офицер, показывал ему однажды изображение идола, вывезенное из диких земель Африки. Показав свою негритянскую достопримечательность, офицер непочтительно бросил ее в ящик.
– Берегитесь, – с ужасом воскликнул Бодлер. – Что, если это и есть настоящий Бог!»
Одна из любопытнейших драм наших дней – молчаливая трагедия П.А. Кропоткина. Думал ли Апостол анархического учения, что на старости лет он увидит в родной своей стране недосягаемый идеал полного безвластия на развалинах сокрушенного государства? И думал ли он, каков будет этот идеал <…> в осуществлении кронштадтских матросов?
«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;
Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.
Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу (Апокалипсис, Гл. II, 2 6).
В «Амаргеддоне» Алданов как бы походя, не выделяя особо из всего прочего, затронул и «еврейский вопрос»:
Ненависть пролетариата к буржуазии или буржуазии к пролетариату облечется, весьма вероятно, в форму антисемитизма. Даже люди, очень довольные внешней политикой г. Троцкого, могут не простить ему того, что он распял Христа.
Гомер говорит где-то о волшебном растении Лотос, отведав которого человек забывает о своей родине. В наше время Лотос стал русским национальным блюдом. Но рано или поздно приестся – и тогда улица проявит такую любовь к отечеству (в особенности к его дыму), что мы все превратимся в интернационалистов.
<…>
Революция <…> прошла под девизом лондонских извозчиков «keep to the left» (держи налево). Несчастье «демагогии» (определение точного смысла этого слова связано с чрезвычайными трудностями) заключается именно в том, что на смену всякого левого демагога быстро приходит демагог еще более левый.
<…>
При царях евреи рассматривались в России как национальность, вероисповедание, сословие и политическая партия. В 1913 году они стали ещё изуверской сектой149. Теперь в них видят правящую касту. Но глубоко был прав Меттерних, утверждая, что всякая страна имеет таких евреев, каких она заслуживает.
Приведенные высказывания Алданова касательно евреев являются единственными не завуалированными, а более или менее конкретными соображениями по «еврейскому» вопросу в его публицистике революционных и первых послереволюционных лет. Сделаны они были, напомним, в то время, когда мутные волны антисемитской пропаганды буквально захлестывали Россию.
7 января 1918г. летописец русского еврейства Шимон Дубнов записывает: «…нам (евреям) не забудут участия евреев-революционеров в терроре большевиков. Сподвижники Ленина: Троцкие, Зиновьевы, Урицкие и др. заслонят его самого. Смольный называют втихомолку “Центрожид”. Позднее об этом будут говорить громко, и юдофобия во всех слоях русского общества глубоко укоренится… Не простят. Почва для антисемитизма готова» 150.
Об опасности разжигания антисемитсяких настроений в огромной многонациональной стране писал Максим Горький в своих знаменитых «Несвоевременных мыслях», взывая к совести и здравому смыслу русского народа. – см. [УРАЛЬСКИЙ М. (III)].
Высказывания же Алданова такого рода эмоциональной нагрузки полностью лишены. Бросается в глаза, что и в эмиграции Алданов, как в публицистике, так и в исторической художественной прозе, упорно обходил молчанием тему «еврейский вопрос и Русская революция», остро звучавшую в дискурсах русского Зарубежья. В предвоенные годы не только русские монархисты и теоретики-антисемиты возлагали на евреев главную ответственность за революцию и гибель «Великой России», но и правоконсервативные европейские мыслители придерживались этой же точки зрения. Одним из важных тезисов гитлеровской риторики являлось обвинение всех евреев в большевизме и злонамеренном уничтожении русской самобытности.
Алданов же в своей публицистике эту тему в целом игнорировал (sic!).
По своему характеру «Армагеддон» – это книга коротких очерков, в которых автор, описывая наиболее злободневные события первых революционных лет, дает им историософскую оценку:
«Царь Иван Васильевич кликал клич: кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку при них? По трое суток кликал он клич – никто не являлся. Приходит Борма- ярыжка и берется исполнить царское желание. После тридцатилетних скитаний он, наконец, возвращается к московскому государю, приносит ему Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку и в награду просит у царя Ивана только одного: дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках».
Владимир Соловьев видит в этой легенде «не лишенное знаменательности заключение для обратного процесса народного сознания в сторону диких языческих идеалов»… – Какие уж тут идеалы? А если идеалы, то почему «языческие»? Римский сенат, бесспорно языческий и по язычески встретивший известие о битве при Каннах, ничего ни в каком отношении не теряет по сравнению с самобытным Советом Рабочих и Солдатских депутатов, который так дружно аплодировал сообщению о Брестском договоре. Не теряет и с точки зрения мысли, заложенной в легенду о Борма-ярыжке.
Что касается самой легенды, то она не только «не лишена знаменательности», как говорил Соловьев, но исполнена грозного смысла, раскрывшегося во всей полноте лишь в настоящие дни.
<…>
<Став владыкой>, Бормаярыжка, осуществляя давнишнюю мечту, немедленно отправился в кабак, бросив на произвол судьбы и корону, и скипетр, и рук державу, и книжку. В особенности книжку.
Бросается в глаза, что и в этом «очерке» Алданов не забывает сделать акцент на том, что подобного рода эксцессы простолюдинов, отнюдь не «русская черта»:
Все это было предсказано в философских драмах Ренана.
И что:
По-видимому, политический нигилизм проявляется либо на крайних низах культуры, либо на ее недосягаемых вершинах151.
Как человек, симпатизировавший борьбе революционной интеллигенции с русским царизмом152, Алданов так же подчеркивает, что
в числе деятелей русского революционного движения были люди и немолодые, и не жестокосердные; были даже (хоть в очень небольшом числе) люди, знающие наш народ. Но другого пути перед ними не было. Они шли за колесницей Джаггернатха или бросались под ее колеса.
<…>
Говорят, русский человек задним умом крепок. Это было бы еще не так плохо, если б было верно: все-таки некоторая гарантия для будущего. Но, кажется, поговорка преувеличивает: особых проявлений заднего ума у нас пока незаметно.
<…>
Современный пролетариат по-своему культурному уровню неизмеримо ниже буржуазии, а задачу себе он ставит неизмеримо труднее: смешно даже сопоставлять ничтожные, казалось, препятствия, стоявшие на пути «Декларации прав человека», с той безграничной хозяйственной и психологической инерцией, на которую неизбежно наткнется в переживаемое нами время попытка осуществления <Декларации прав трудящихся>.
<…>
Весьма нелегко определить, по какому логическому принципу делятся стороны в нынешней «классовой борьбе»: большевики сражаются с украинцами, поляки с ударниками, матросы с финнами, чехословаки с красногвардейцами. Очевидно, люди воюют с кем попало – по соображениям географического удобства.
Классовая борьба у нас, вдобавок, осложняется некоторой застенчивостью. Так, вожди русской буржуазии до сих пор стыдятся своего ремесла. У нас самое что ни есть подлинное купечество почему-то занималось мимикрией под «внеклассовую интеллигенцию». С другой стороны, добрая часть русской внеклассовой интеллигенции живет такой мимикрией под рабочий пролетариат.
Уже в «Армагеддоне» Алданов, с тонкой иронией, а порой и сарказмом, высказывает, опираясь на классических писателей, свое скептическое недоверие к пророчествам, ставшее одним из лейтмотивов его последующей философской прозы: «Сколько пророчеств, и хоть бы одно сбылось»:
Тютчев <…> «предсказывал» (в апреле 1848 г.): «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы – Революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества».
К этому предсказанию Иванов-Разумник <…> добавляет следующее послесловие:
«Да, подлинно величайшая здесь историческая углубленность, и ни слова не можем мы выбросить из вдохновенного прозрения Тютчева. Одно только: за три четверти века, прошедшие с тех пор до сегодняшнего дня, Россия и Европа поменялись местами. Тогда – Россия стояла на страже старого мира против всей революционной Европы, теперь – старая Европа стоит на той же страже против революционной России».
Это «одно только» несколько неожиданно. Поэт предсказал «одно только», – в действительности случилось нечто противоположное. Но комментатор всё же видит здесь величайшую углубленность и вдохновенное прозрение. Поистине поэты без риска могут предсказывать что угодно.
Среди глашатаев и пророков разразившейся трагедии, конечно же, на первом месте у Алданова выступают Достоевский и Лев Толстой.
«Мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от спокойствия своих пролетариев, подкупаемого его уже последними усилиями домашних правительств и всего лишь на час».
Кто это говорит? Ленин? Троцкий? Нет, так писал в апреле 1877 г. Ф.М. Достоевский («Дневник писателя»). <…> Книга, откуда взята эта цитата, вся состоит из политических предсказаний, из которых не сбылось ни одно.
Биржи ли европейской буржуазии, или спокойствие европейских пролетариев, или, может, что другое, – однако Европа еще держится. <…> … тогда как Великая Россия уже полгода во власти «Бесов»153. В минуты мрачного вдохновения зародилась эта книга в злобном уме Достоевского.
Этот человек, не имевший ни малейшего представления о политике, был в своей области, в области «достоевщины», подлинный русский пророк, провидец безмерных глубины и силы и необычайный. Октябрьская революция без него непонятна; но без проекции на нынешние события непонятен до конца и он, черный бриллиант русской литературы.
Схема русского революционного движения, взятого в многолетней перспективе, поражает быстрым падением вдохновения… Точно опера. «Паяцы»… Прекрасен драматический пролог. Есть сильные места в первом действии. Вульгарно и ничтожно второе. Коломбина зарезана. Негодяй Тонио торжествует. Скоро послышится: la cоmedia finita154
Достоевский лучше всего предвидел второе действие. Деятелей пролога он ненавидел, их идей не понимал; об этом свидетельствует самый эпиграф «Бесов»: много, очень много свиней пришлось бы утопить в озере для того, чтобы очистить русскую землю от грехов, – в первую очередь от преступлений самодержавия.
Первое действие, более или менее свободное от подлинной достоевщины, не отпиралось и мистическим ключом. Где в нем Ставрогины, Шатовы, где сказка о царевиче Иване, где полуземная мистика Кириллова155? Достоевский отдал поклон катафалку, на котором не было покойника…
<…>
Царь отстаивал самодержавие, солдаты стремились к заключению мира, крестьяне хотели получить землю, помещики не желали ее отдавать, рабочие требовали огромной платы, капиталисты отказывались платить, – какой уж тут мистицизм?
Верно был намечен культ пустословия, верно предвосхищение в гениальной карикатуре вечеринки у акушерки Виргинской.
Были, однако, в первом акте и моменты торжества духа над телом; в частности, и над языком.
Зато второе действие – апофеоз пророческого дара Достоевского. Верховенский и Щигалев, Свидригайлов и Карамазов, Смердяков и Федька-каторжник овладевали русской землёй. Движущие силы Октябрьского переворота слагались из животных инстинктов и самой чёрной достоевщины.
Была также, вероятно, крошечная примесь идеализма.
<…>
Задолго до войны и революции великий наш мудрец утверждал, что русский народ глубоко равнодушен к братьям славянам и к Константинополю. <…> Тот же бесконечно умный Толстой писал, что русский народ совершенно равнодушен к царю. Эти пророческие слова в свое время казались еще более далекими от жизни. Теперь нам временно приходится вспомнить третье утверждение Толстого: он говорил, что патриотизм есть чувства совершенно незнакомые подавляющему большинству русского народа… Этот человек был точно лишён способности ошибаться, когда говорил о том, что есть (а не о том, что быть должно).
Размышляя на тему возможности прогнозирования исторических событий, Алданов, приводя целый набор интересных в историческом отношении цитат, старается всячески уязвить марксизм с его претензией на научное прогнозирование социальных процессов:
Нет ничего легче чем предсказывать то, что было. Пророков, предсказывающих то, что будет, гораздо меньше, и они часто бывают не слишком ясны. Но в истории мирового шарлатанства и роль Пифии не принадлежит к числу самых лёгких.
<…>
В старых книгах порой встречаешь страницы редкого проникновения и удивляющей глубины. Но фантазий, но ошибок всё же неизмеримо больше.
Особенно много иллюзий порождала категория времени: ошибались не на года и даже не на столетия, – иногда на десятке столетий.
Мечта о земном Рае покрыта пылью веков. Первым социалистом был, вероятно, Адам…
Нынешний строй не вечен, – это совершенно несомненно. В строе, который придет ему на смену, будут преобладать формы коллективного владения, – это весьма вероятно. Новый строй принесет людям больше материального благосостояния, – это вполне возможно. Но как он наступит и через сколько времени, – вот вопрос, многочисленные ответы на который представляют одну из интереснейших страниц в истории человеческого незнания.
<…>
Вера есть вера, даже тогда, когда она называет себя наукой.
Карл Маркс, творец научного социализма, всю жизнь был убежден в крайней близости коммунистического строя и ровно 70 лет тому назад писал: «буржуазная революция может быть только непосредственной прелюдией Революции Пролетарской».
<…>
Фридрих Энгельс <…> приурочивал социалистический переворот <в России> к 1898 г.
Равным образом Август Бебель не раз высказывал надежду дожить до будущего строя – и, был наказан судьбой, пославший ему исключительно долгую жизнь.
Наконец, по мнению Жореса, который, впрочем, не принадлежал к чистым марксистам, социальная революция должна была произойти между 1907 и 1917 годами.
Марксисты знают, что время работает неизменно для них и не может работать против них. Совершенно так же знали это социалисты первых времен христианства…<…>
Исторический прогноз (не отдельный и случайный) невозможен. Здесь вечное – ignorabimus156.
Анализируя на фоне разразившейся русской революции все предыдущие революционные взрывы, проводя многочисленные исторические параллели, Алданов в «Армагеддоне» старается доказать, что они не обусловлены совокупностью социально-экономических причин, как декларирует марксизм, и не предопределены, – другими словами, не являются неизбежными. В его историософской концепции революций на первый план выдвигается «слепой случай», возносящий, как правило (sic!), на вершины власти недостойных и сводящий на нет любые попытки прогнозирования событий. Опираясь на мысль Пушкина, которая, по его мнению, «в своей сжатости гениальна», Алданов утверждает, что:
Революция, которую замышляют, невозможна. К тем, кто хочет подчинить ее логическому руководству, она беспощадна. Переворот должен обратиться в бунт.
В концептуальном представлении Алданова исторического процесса в целом главный тезис – это то, что:
Удачных революций не бывает. Революция по природе своей не может творить. Она лишь создает такие условия, при которых будущее государственное творчество становится возможным и – главное – неизбежным, как бы ни кончилась сама революция157.
<…>
За исключением дворцовых и династических переворотов, все революции неудачны, – если их рассматривать вне надлежащей перспективы. <…> Великая Французская революция <…> в перспективе одного двадцатипятилетия – тяжёлый нелепый кошмар. Такова в аналогичной перспективе Великая Английская революция…
Тем не менее всегда что-то остается. Вопрос оправдания революции в цене, которой куплено – это «что-то». Да ещё в невещественных ценностях – в остающейся легенде…
<…>
Демократической идее, однако, придется пережить нелегкое время: она, по-видимому, пришла в некоторое противоречие сама с собой. Опыт нам показал, что ничто так ни чуждо массам, как уважение к чужому праву, к чужой мысли, к чужой свободе. Иллюзий у нас больше нет. Мы массами руководить не можем. Но если массы будут руководить нами? Если державная воля народа потребует от нас отречения от азбучных начал либерализма?
Интеллигенция воссоздавала народ из глубин coбственного духа <…>. Мы сеяли «разумное, доброе, вечное». <…> Но толпа сказала нам не «спасибо сердечное», а нечто совершенно другое…158
Уйти от народа все же некуда: в ХХ веке нет ни аскетических схимников, ни комфортабельных келий. Жить с массами в долине нам так или иначе придется: на Монблане «гордого одиночества» коротать дни неудобно, да и скучно.
<…>
В лучшем случае легендой русской революции будет то, что вожди ее первого периода, имея полную возможность сохранить свою власть и спасти от хаоса Россию ценой измены союзу и собственного бесчестья, на этот путь всё же не стали159. Некоторые из них ясно предчувствовали и предпочитали гибель…
На трудном пути Революции одни заблуждались меньше, другие больше. Одни могут говорить mea culpa160, другие – mea maxima culpa. Но и без тысячи ошибок над всеми неумолимо висел и висит рок Великой войны.
В конце книги Алданов по существу предрекает Гражданскую войну и сценарий Великой Французской революции:
Перед нами премьера и, вероятно, не последнее представление… А, казалось бы, после того, что было и будет, над этим драматическим жанром много прежних ценителей должны б поставить крест с могильной надписью: «Род. в 1793 г. в Париже, сконч. в 1918 г. в Петербурге».
Историософский пафос Алданова-публициста утверждает непредсказуемость направлений исторических процессов. Не веря в достоверность долгосрочных политических прогнозов, он в «Амаргеддоне», тем не менее, предсказывает, что: «Ленин будет, вероятно, признан гениальным человеком». Через несколько лет Ленин, действительно, был признан гением всех времен и народов, мумифицирован и воспет поэтами на сотнях различных языков. Сбылось, к несчастью, и другое алдановское предвидение, связанное с влиянием «оптимистической трагедии», разыгрававшейся в России, на западный мир. В «Армагеддоне» он писал:
последствием социальных потрясений в Европе будет, скорее всего, почти такой же грабеж награбленного, почти такое же моральное и умственное одичание.
Так оно, увы, и случилось. Через двадцать лет весь мир был охвачен пламенем еще более страшного и разрушительного, чем Первая мировая война, международного военного противоборства, а затем долгие годы восстанавливался от последствий тотальных зверств и сопутствующего им нравственного одичания. Россия, сыграв вместе с другими европейскими странами в этом социальном катаклизме заглавную роль, доказала тем самым столь важный для Алданова тезис, что русские – такие же европейцы и столь же активно влияют на европейскую историю, как и все остальные народы. Ну, а в 1918 г, анализируя в «Армагеддоне» актуальный политический момент Русской революции, Алданов констатирует:
Хуже всего, что отныне ничего больше нельзя валить на «русскую жизнь» и никого не будет впредь заедать среда, та среда, которая заела половину героев нашей литературы. Не проходит бесследно вековая школа деспотизма и грубости. Русский человек, грозящий своей кухарке рассчитать ее «в 24 часа», ныне гражданин «самой свободной страны в мире». Здесь Року не приходится ничего и отнимать: политическая революция у нас произошла, социальная, по-видимому, производится, но психологическая, наверное, будет не скоро.
Оставляет финал своей книги открытым и концептуально разомкнутым – такого рода «недосказанность» как художественный прием будет впоследствие использоваться им и в исторической беллетристике – Алданов пишет:
Будущее темно. Куда влачит нас колесница Джагернатха?.. …какая участь постигнет высшие ценности европейской цивилизации, сказать трудно:
Мирозданием раздвинут,Хаос мстительный не спит.В заключении этого раздела отметим так же, что все описания Алдановым октябрьских событий, при их несомненной фактографической достоверности, являются в первую очередь художественно-публицистическими произведениями161. Их причинно-следственная интерпретация у Алданова с позиции разграничения эмпирического осмысленного знания (документ) и метафизического, неосмысленного (концепт) представляется достаточно субъективной. Особенно это касается оценки личностей вождей Русской революции – как общей, так и персональной. Все они, как правило, характеризуются уничижительно – и в моральном отношении, и в образовательно-культурном плане, что с фактической точки зрения совершенно неверно. Единственным исключением здесь у Алданова являются фигуры Ленина.
Русская революция станет одной из основных тем многочисленных алдановских исторических романов, рассказов и очерков. В них писатель скрупулезно воссоздает образы людей пред- и революционной эпохи, отдельные «знаковые» характеры, события, интерьеры. Вся эмигрантская проза Алданова – это по сути своей историософская хроника двух Великих европейских революций – Французской и Русской, в их зеркальном отражении. Еще более фундаментальной и подробной она становится при добавлении к ней серии алдановских литературных портретов великих деятелей этих великих эпох.
Если же у читателя возникнет желание несколько снизить «пафос видения», то здесь стоит обратиться к другому знаменитому писателю эмиграции, доброму знакомому Марка Алданова, поэту-сатирику Дон-Аминадо. Этот литератор, ничтоже сумняшеся, изложил все «громадье» темы «От Февральской революции до Советской России» в лапидарной лирико-метафорической форме:
В Феврале был пролог. В Октябре – эпилог. Представление кончилось. Представление начинается. В учебнике истории появятся имена, наименования, которых не вычеркнешь пером, не вырубишь топором.