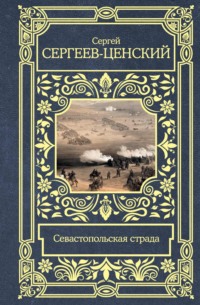
Севастопольская страда
Четыре мортирки поручика Маркова стали действовать теперь и по колонне у шлагбаума, и по колонне на Кефаловриси, и по союзной эскадре… И часа полтора палили эти четыре задорные мортирки… Но снаряды иссякли наконец, мортирки умолкли. Не слышно уж было и ружейных выстрелов…
Только тогда бросились на штурм густые цепи с горы, и на развалинах заалел английский флаг.
Подполковник Манто и капитан Стамати были ранены осколками гранат, с ними попали в плен человек шестьдесят солдат и инвалидов, а остальных увел лихой поручик Марков вместе со своими артиллеристами. В густых зарослях и в расщелинах скалистого берега скрывались они до темноты, а ночью пробрались в Севастополь. Занятие Балаклавы неожиданно обошлось англичанам человек в двести убитых и раненых, и сам Раглан захотел посмотреть на пленных.
– Только-то! – сказал он с недоумением. – Такая жалкая горсть людей сопротивлялась нам столько времени! На что же вы надеялись, безумец? Зачем вы затеяли перестрелку с целой армией? – обратился он к полковнику Манто.
– Мы только выполнили свой долг, как могли и как сумели, – ответил Манто.
В бухту бойко вбежал небольшой паровой катер, кое-где сделал промеры глубины, потом выбежал снова в море, чтобы привести на место стоянки всю эскадру.
В небольшую Балаклаву двумя сплошными потоками – от шлагбаума и с горы Кефаловриси – влились английские полки. Еще когда только началась перестрелка, почти все жители Балаклавы переправились на яликах на другой, малозаселенный берег и бежали в сады и виноградники, но когда канонада окончилась, они вернулись, чтобы приглядеть за своим имуществом.
Однако имущество их было уже в руках других хозяев, которые простую мебель ломали на дрова, более ценную отправляли на пароходы; срывали обои и распарывали матрацы, ища, не спрятаны ли где деньги и золотые вещи; платье разбирали по рукам; настенные зеркала разбивали на куски.
Плача, умоляли хозяйки домов прекратить этот разгром, но от них требовали сначала доказательств того, что они действительно хозяйки здесь, а когда доказательства представлялись, говорили: «Пустяки. Это все – наше теперь!» – а особенно голосистым указывали на свои штыки или сабли. Женщины пытались жаловаться на солдат офицерам, но те хлопали жалобщиц по плечу и утешали насмешливо: «Стоит ли вам хлопотать и убиваться об этих жалких лачугах! Вот возьмем Севастополь – подарим вам дворцы и кареты!»
Вся домашняя птица была изловлена и пошла на кухни. Молочный скот, к вечеру вернувшийся с пастбища, был убит на порции солдатам. Виноградники, сады, огороды были очищены в первый же день. Но у многих балаклавских греков было по несколько колодок пчел.
В первый день этих колодок не трогали; до них добрались на второй день, когда было уже покончено со всеми ближними виноградниками и садами. Однако балаклавские пчелы защищались не менее яростно, чем маленький балаклавский гарнизон, тем более что «дети королевы Виктории» только знали, что в ульях бывают соты с медом, но не умели вынимать эти соты. Право победителей не помогло им, когда они вздумали разламывать колодки, чтобы достать соты. Десятки, сотни тысяч рассерженных пчел напали на грабителей.
Те сначала отмахивались от них руками как от мух, потом спрятали руки в карманы, спрятали шеи в поднятые воротники, уткнули лица в сгибы локтей, – ничто не помогало!.. Мириады пчел вились всюду; от них темнел день и жужжал воздух… Солдаты пробовали закутываться с головой в только что снятые с кроватей балаклавские одеяла, но пчелы проникали и под одеяла. Особенно пострадали от них шотландцы, голоколенные и в юбчонках. Они ожесточенно хлопали себя по ляжкам, визжа от болезненных укусов. Они вертелись как бешеные, наконец не выдержали и пустились в постыдное бегство. Многие бросались в бухту и погружались в тинистую воду до глаз, чтобы хоть в таком положении спастись от разозленных насекомых, но пчелы вились сплошной тучей и над водою у берегов бухты, а боль от укусов не проходила в воде. Многим потребовалась даже помощь врачей, до того они были искусаны и распухли.
Но когда покончено было со всем исконным балаклавским бытом, даже и с пчелами, начали ломать ограды и каменные стенки, выходящие на набережную, и рубить деревья в садах за этими стенками и оградами, чтобы набережную сделать шире. Под госпиталь отвели самый большой из домов; разметили остальные дома под квартиры начальства; расчистили от виноградных кустов поляны и на них установили красноверхие палатки – и начали разгружать транспорты, нагруженные еще в Варне тем, что было приготовлено для планомерной, методической осады Севастополя.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Аяксы – два легендарных греческих героя, упоминаемые в поэме Гомера «Илиада». Аяксы всегда были друг с другом неразлучны.
2
Ахиллес – один из главных героев поэмы Гомера «Илиада».
3
– «Кто этот генерал?» (фр.).
4
– «Министр, который идет в гору» (фр.).
5
Карфаген – финикийское государство и главный его город в Северной Африке; разрушен войсками Рима, с которыми вел войны (264–146 до н. э.).
6
Валтасар – вавилонский царь, который, согласно Библии, увидал во время пира начертанные таинственной рукой непонятные слова на стене, предвещавшие, как разъяснили толкователи, гибель его царства.
7
Аркадия – сказочная страна счастья и простоты нравов.
8
Рамоли (в пер. с фр.) – человек, старчески расслабленный.
9
Ватерлоо – селение в Бельгии, вокруг которого 18 июня 1815 г. произошло сражение между соединенными силами Англии и Пруссии и армией Наполеона.
10
Плиний Старший (24–79) – натуралист и общественный деятель.
11
Аранжуэц – летняя резиденция испанских королей.
12
Ганнибал (ок. 247–183 до н. э.) – известный карфагенский полководец.
13
Сийес Эммануил Жозеф (1748–1836) – французский государственный деятель и публицист.
14
Фемистокл – афинский военачальник и политический деятель (525–461 до н. э.), разбил персидский флот у острова Саламина.
15
Тевтобургский лес – легендарное место, где германцы разбили под руководством Арминия в 9 г. н. э. римские легионы.
16
Митридат VI (132 – 63 до н. э.) – царь Понта в Малой Азии; подчинил себе всю Малую Азию, Колхиду (Кавказ), Херсонес Таврический (Крым) и Боспорское царство.
17
Филипп Македонский (382–336 до н. э.) – царь македонский. Им введен новый тогда строй пехоты, называвшийся фалангой.
18
2 декабря 1852 г. Луи Наполеон, до того президент республики, провозгласил себя императором и в несколько дней подавил восстание, вспыхнувшее на улицах Парижа.
19
Государь! Пушка вашего величества заговорила… (фр.).
20
Геркулес – легендарный герой древних греков. Один из его подвигов заключался в победе над великаном Антеем, сыном богини земли Геи.
21
Во что бы то ни стало (фр.).
22
Густав Третий – шведский король (с 1771 по 1792 г.), вел войну с Россией.
23
Рыцарь из Ламанчи – Дон Кихот, герой одноименного романа испанского писателя Сервантеса.
24
Ретирада – отступление.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов