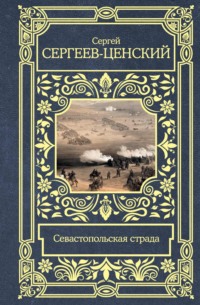
Севастопольская страда
Та воля, которая сплотила все силы и средства для защиты города в часы и дни полной растерянности, разброда, преступной паники, вдруг иссякла, – и в ком же и где было искать новый источник подобной же сильной и зрячей воли?
Может быть, расстроила нервы неслыханная, убийственная, оглушающая канонада, не прекращавшаяся два дня, но плакали здесь, в соборе, многие, даже и те, которые не знали о самих себе, что они умеют плакать.
И Нахимов уже не прятал здесь своего личного горя: стоял со свечой, как и все, ближе всех других к гробу, забывчиво слегка кивал головой, совсем не в такт панихидному пению, и слезы скатывались в его белесые, едва прикрывавшие губу усы.
Вместе с племянником покойного адмирала, гардемарином Новосильцевым, который до похорон не собрался уехать в Николаев, был в церкви и Виктор Зарубин; отец же Виктора, как это ни было трудно для него, не захотел отстать от сына, раз дело шло о похоронах самого Корнилова, и тоже пробрался внутрь собора.
Он стремился вытянуть свою сведенную от раны ногу, чтобы стать хоть чуть-чуть повыше и разглядеть побольше.
Ведь, кроме Корнилова в гробу и Нахимова около гроба, тут были, озаренные слабым и неверным желтым светом мерцавших свечей, и старый Станюкович, крестившийся частыми и бессильными крестиками около сухого лица, точно сгонял с него докучную муху, и Истомин, урвавший час от своей тяжелой вахты на Малаховом, и оба Вукотича, и Зорин, и много его бывших сослуживцев по затопленному кораблю «Три святителя»…
И всех их хотелось видеть ему, наполовину ушедшему от жизни, у тела того, кто ушел от нее совсем. Он знал великую торжественность подобных минут, когда люди как бы дают свои клятвы умершему, даже если никто из живых рядом не слышит ни одной клятвы.
Но панихида была недолго. Она и не могла затягиваться, потому что суровы были предночные часы: канонада гремела, ядра летели в город; может, уже скоплялись под прикрытием глубоких балок против третьего и четвертого бастионов войска союзников для штурма.
Около собора выстроились батальоны моряков, пехоты и полубатарея в четыре орудия. На рейде корабли скрестили реи и приспустили свои флаги и вымпелы. Гроб вынесли на паперть. Вынесли и бархатную подушку с многочисленными орденами Корнилова. Певчие пели «надгробное рыдание»… Траурная процессия потянулась по Екатерининской улице туда, где незадолго до высадки интервентов так торжественно был заложен новый Владимирский собор над склепом, в котором хоронили года три назад адмирала Лазарева.
Когда Лазарев командовал кораблем «Азов», он зашел однажды в каюту своего молодого лейтенанта Корнилова. Тот сидел за чтением французского романа. Кипа французских же романов лежала у него и на полке каюты.
Лазарев был возмущен таким легкомыслием чрезвычайно.
– Вы, даровитый умный человек, тратите драгоценное время на чтение всякой чепухи! – закричал он. – Я вам запрещаю это как ваш начальник!.. Понимаете? Раз и навсегда запрещаю!
Он собрал энергично все книги лейтенанта и выкинул через окошко каюты в море.
– Что же все-таки я должен читать? – ошеломленный, спросил Корнилов.
– А это уж я вам принесу сейчас сам, что вы должны читать!
И капитан Лазарев вышел, но скоро вернулся с кипою совсем других книг. Это были сочинения главным образом по морскому делу.
Прошло четверть века, и ученик стал достоин учителя настолько, чтобы лечь с ним рядом после смерти в одном склепе.
Процессия двигалась. Певчие пели «вечную память» истово и выразительно, чувствуя, что не лгут при этом, как приходилось им поневоле лгать обычно. Темнело быстро. Зажгли факелы.
А ядра и бомбы все еще летели в город.
И одна из бомб разорвалась как раз в хвосте процессии, где шли обыватели. Капитан Зарубин, припечатывая каждый свой шаг толстой палкой и вывертывая замысловато ногу, плелся недалеко впереди и слышал разрыв бомбы, и потом бабий визг и глухой вопль.
Толпа сгрудилась сзади. Донеслись крики:
– Что, аль попало в кого?
– Ну а как же! Известно, попало!
Зарубин остановился в нерешимости, идти ли дальше за гробом Корнилова или повернуть сюда, где в кого-то попало.
Услышал суровые мужские слова:
– Где тут носилок искать на улице… Носилки! Берись за ноги, за руки, тащи прямо в часовню! Там люди найдут, чья она!
– Неужто насмерть? – жалостно спросил Зарубин какого-то бородатого.
– Ну а как же? Известно, насмерть, – ответил бородач. – Баба ведь…
Много ей надо? Осколок в брюхо воткнулся – вот и готово.
Зарубин покачал головой, пробормотал задумчиво:
– Что же тут скажешь, а? Бог знает, что он с нами делает…
Виктор был далеко впереди, жена и дочери оставались дома. (Они перебрались с Северной стороны вечером накануне, когда прекратилась пальба.) Успокоившись за себя и своих, Зарубин заковылял догонять процессию.
Полыхали факелы, придавая всей картине необычайный вид, на обширном, отгороженном забором месте заложенного собора толпились офицеры разных чинов. Батальоны матросов и пехоты и четыре орудия дали положенное число залпов холостыми зарядами.
В последний раз приложились губами к мощному, но холодному корниловскому лбу те, кто был ближе, и вот уже начали забивать крышку гроба.
– А здесь ведь найдется, пожалуй, и для меня местечко! – оглядывая при факеле обширный склеп, неожиданно для нескольких адмиралов, которые удостоились туда войти, сказал Нахимов.
– Ну что это вы, Павел Степаныч! – укоризненно, вполголоса отозвался на это Истомин.
– А что вы думате? Не заслужу?.. Пожалуй, и правда, не заслужу-с! – поник головой Нахимов.
– Я совсем не в том смысле, Павел Степаныч, – захотел поправиться Истомин.
– А в каком же еще-с?.. Может, вы думаете, что мы из Севастополя живыми выйдем? Нет-с! Не выйдем-с!
Но не было времени ни для праздных гаданий о грядущем, ни для того, чтобы безмолвно пробыть лишнюю минуту около тела Корнилова: мысль о возможности вечернего штурма союзников скоро разметала всех далеко от склепа. Только каменщики остались в нем поспешно укладывать свод из кирпича над свежей могилой.
О том, что ждут штурма ночью, слышал в толпе и старый Зарубин, и когда Виктор разыскал его, отец тревожно говорил сыну:
– Штурма ждут ночью сегодня, штурма! Вот видишь ты, вышло как для нас худо: с одной стороны, и Владимира Алексеича похоронили, а с другой – штурм может быть. Что же теперь должно получиться, а?
– Пустяки! – беспечно отвечал сын. – А матросы?.. Да матросы теперь их не то чтоб штыками, зубами за Корнилова рвать будут!
Горячие слова сына все-таки не убедили отца. Утром вся семья Зарубиных вместе с другими офицерскими семьями перешла из своего дома в адмиралтейство.
IVПрошло еще два дня.
На штурм все еще не отважились интервенты, но канонада 7 октября была уже значительно сильнее, чем 6-го: исправили все свои повреждения французы и поставили даже новые батареи. Замечено было, что появились новые дальнобойные орудия и на Зеленой горе у англичан.
Эта гора была названа так интервентами, но очень молодыми были и названия горы Рудольфа, облюбованной для своих батарей французами, и знаменитого в крымскую кампанию кургана, принадлежавшего в тридцатых годах шкиперу Малахову. Но места эти, как и все места кругом здесь, прихотливо, как в Греции, изрезанные бухтами берега незамерзающего моря, видели на своем веку великое множество больших и малых войн; по ним летали в древние времена и стрелы и камни, выпущенные из катапульт, а соседний с Севастополем – «величественным городом» – Инкерман, «город-крепость» по-турецки, имел не менее как трехтысячелетнюю давность, все расширяясь и обновляясь и украшаясь орнаментами вдоль своих подземных стен из податливого резцу известняка. И каждый уступ на его отвесах, конечно, сотни раз орошался такою дешевой и такою грозной жидкостью, как алая человеческая кровь.
Первые греческие поэты и географы рассказывают с ужасом о неприступных скалах Инкермана, с которых скифы сбрасывали вниз захваченных ими мореплавателей-греков. Эти страшные укрепления тавро-скифов были взяты только Диофантом, знаменитым полководцем Митридата VI, царя понтийского.
Совсем перед Крымской войною златоустый Иннокентий, архиепископ херсонский и таврический, вздумал основать в инкерманских пещерах монастырь, и там поселилось было человек двадцать монахов, устроившихся в этом древнем жилье не так плохо. Монастырек этот был назван киновией во имя святых пап Климента и Мартина.
На северном склоне Малахова кургана, как и на примыкавшей к нему Корабельной слободке, были тоже пещеры, оставшиеся от бывших здесь некогда каменоломен. В этих пещерах селились беднейшие семьи матросов, не имевшие средств даже и для того, чтобы соорудить себе нехитрую хатенку под крышей.
Однако теперь, когда и северный склон Малахова кургана начал обстреливаться столь же беспощадно, как и южный и восточный, занятые редутами хаты подешевели, пещеры подорожали.
Неслыханной силы канонада загнала в землю и тех, кто нападал на город, и тех, кто в нем оборонялся. Землянки были выкопаны и для матросов-артиллеристов, и для офицеров на батареях; контр-адмиралы, ведавшие участками или дистанциями оборонительной линии, имели свои пещеры. Инкерман значительно расширил свои древние границы.
Уже в первые дни канонады до сорока хаток-мазанок на Корабельной слободке было развалено и даже сожжено снарядами и ракетами. Но велика у людей привычка к родным пепелищам и велика сила нужды: матроски все-таки не ушли далеко от редутов, где у многих сражались мужья, а только переселились в глубь слободки, особенно густо заселяя пещеры, имевшие двери только наружу, на улицу.
Изыскивая средства для пропитания своих ребят, они и раньше занимались тем, что пекли на продажу бублики, оладьи, калачи и прочую снедь, но продавали это на рынке. Теперь же рядом с ними появился тот же рынок – пехотные прикрытия бастионов.
К утру четвертого дня канонады матроски уже освоились с ней. Не то чтобы не обращали уж совсем на нее внимания или перестали ее бояться, но начали больше думать о продолжении жизни, чем о близкой и напрасной смерти.
Утром 8 октября соседка уже окликала бодро соседку через узенькую улицу:
– Дунька-а, а Дуньк!.. Чи ты там у себя живая?
– Жи-ва-я, родимец! – откликалась Дунька.
– О-о! Живая?.. А крышу те не провалило?
– Не-е! Крыша моя стоит целая!
– Вот и слава те осподи!.. А хотя бы ж и крышу – а бы б не голову провалило!
И через минуту:
– Дунька-а!
– А-а!
– За водой со мной пойдешь?
– Пойду, а как же мне – без воды сидеть?
– Ну, тогда бери ведра-то, пойдем, што ль!.. А то мне одной чегой-то показывается вроде как страшно!
И идут вместе с ведрами на коромыслах вниз, к колодцу. И хотя ядра немилосердно рыщут по Корабельной, выискивая себе жертвы, но когда идешь вдвоем, все-таки не так на них обращаешь внимание и поговоришь, кстати, на ходу о том о сем, о своем, о бабьем.
Многочисленная же матросская детвора очень скоро привыкла к ядрам, и они занимали ребят гораздо меньше, чем бомбы.
Ядра просто шлепались в землю, как большие камни, или, если падали на твердое, подскакивали и катились, как мячи. Бомбы же были куда загадочней, таинственней и замысловатей.
Они вертелись, двигались по земле, шипели, как гуси, сыпали искры из своих трубок и, наконец, рвались с раскатистым треском и лупили во все стороны черепками.
Так же точно рвались и бутылки, когда ребята насыпали в них негашеной извести, наливали воды и затыкали бутылку покрепче пробкой. Известь нагревалась, набухала, шипела, выстреливала пробку и рвала бутылку в мелкие брызги.
Это было тоже занятно, но бомбы занимали ребят гораздо больше.
В полдень 8 октября первая русская сестра милосердия – матросская сирота Даша – заметила от дверей своего перевязочного пункта на Корабельной, что на улице куча ребятишек лет по девяти-десяти, сцепившись руками, весело танцуют около чего-то на земле и поют.
Они пели звонко:
Бомба идет, бомба идет!Ух ты-ы! Ух ты-ы!Кого-то хватит, кого-то хватит!Ух ты-ы! Ух ты-ы!В средине их круга вертелась и шипела бомба, готовая взорваться.
Даша не видела ее издали, но догадалась об этом, вскрикнула, обомлела и кинулась к ребятам, крича исступленно:
– Чертенята! Что вы! Игрушка вам это?
Но уже поздно было: впору было самой падать на землю, спасаться от осколков. Взорвалась бомба, и двое ребят валялись на земле в крови, а остальные убегали, оглядываясь назад и крича:
– Ваську хватило!.. Митьку хватило!
Они действительно играли, хотя и оказалось, что это была игра со смертью. Но не дано нам в детстве различать, где кончается наша мечта о жизни и где начинается свирепая правда этой жизни.
Когда добежала Даша, один из ребятишек уже не двигался: осколок вонзился ему в висок. И хотя был это небольшой осколок, но она видела, применяя свой недолгий опыт, что ребенок уже безнадежен.
У другого, Митьки – она знала его, – были только сильно изранены ноги, и это он так окровавил землю.
Она схватила Митьку на руки и потащила на перевязочный пункт, возмущенно ворча при этом:
– Удивляюсь я на матерей таких! Чего же они за своими детями не смотрят?
Отлично знала она, что матерям здесь некогда все время смотреть за детьми: они были в вечной заботе о том, чем бы их накормить, – но нужно же было и ей кого-нибудь обвиноватить за Митьку, который если и останется в живых, то будет калекой.
Матери и бежали, обе голорукие и с подоткнутыми подолами, и голосили над убитым Васькой, и порывались за уносимым Митькой: укрытые в своих пещерах от ядер, они стирали белье на офицеров с Малахова кургана. Это были Дунька и ее соседка, ходившие утром за водою вниз к колодцу.
В этот же день вторая русская сестра милосердия, жена батарейного командира Хлапонина, в госпитале сухопутных войск тревожно, как и во все эти страшные дни канонады, вглядывалась в каждого нового раненого офицера, которого приносили на носилках.
Утром этого дня получен уже был приказ перевезти весь госпиталь в безопасное место на Северную сторону, так как в него часто начали падать снаряды, поэтому здесь все готовились к переезду и дожидались только густых сумерек, когда прекращалась пальба.
С мужем виделась она в ночь с 6-го на 7-е; от него узнала потрясающие подробности о взрыве порохового погреба на третьем бастионе и о смерти ее недавнего гостя капитан-лейтенанта Лесли, быть может разорванного на мельчайшие части, почему и не удалось разыскать его тела, а может быть, просто забитого слишком глубоко в землю.
На ночь она уходила к себе на квартиру, и потому, что ей негде было ночевать в лазарете, и потому, что ночью не было перестрелки, она могла несколько успокоиться за мужа и уснуть, чтобы иметь силы весь следующий день с раннего утра до темноты провести в лазарете.
Однако если на четвертый день к ней уже привыкли, и врачи и смотритель госпиталя – полковник, то она никак не могла заставить себя с необходимым равнодушием смотреть на изувеченные тела, потому что каждую минуту ждала, что вот именно с такою страшною раной, или с такою, или вот с подобной принесут ее мужа.
О том, что муж ее может быть убит и исчезнет бесследно точно так же, как исчез Лесли, она не думала: такая мысль просто не могла бы и появиться в ее голове; она не думала и о том, что он будет убит, как очень многие другие, как все, кроме Лесли, – и эта мысль ее раздавила бы своей тяжестью, если бы овладела ею прочно.
Но испуг за мужа, который может быть ранен, ее не оставлял и первые три дня канонады и перешел на четвертый.
Она безотказно делала в госпитале все, что просили ее делать врачи, так как раненых было очень много, врачей мало и всегда не хватало людей для помощи им при операциях. Она старалась глядеть на страшные раны только вполглаза, у нее так болезненно сжималось сердце, что ей казалось временами это непереносимым, казалось, что сердце оборвется куда-то и она упадет и умрет.
Тяжелый запах крови и нечистых ран доводил ее до тошноты; тогда она кидалась к окну с разбитым стеклом или открытой форточкой и старалась надышаться свежего воздуха как можно больше.
Но из госпиталя она все-таки не уходила: силилась приучить себя и к страшному виду ран, и к их не менее страшному запаху, потому что такие именно раны и с таким же точно запахом могут появиться на теле ее мужа там, на этом ужасном третьем бастионе, и что же тогда? Тогда он может заметить по выражению лица ее, что ей непереносимо тяжело с ним возиться, и это его убьет.
Падавшие в госпиталь снаряды – причем одним из них на третий день бомбардировки были убиты двое раненых, а двое доведены до безнадежного состояния, – очень нервировали смотрителя, который жил здесь с семейством, врачей и всех вообще служащих и тех из раненых, которые не были в беспамятстве.
Офицеры требовали крикливо, чтобы их сейчас же увезли отсюда, что должна быть какая-нибудь разница между госпиталем и бастионом; что они будут жаловаться на такие порядки по начальству и непосредственно в Петербург… Солдаты испуганно оглядывались на окна и потолки и ругали начальство госпиталя за то, что, как им казалось, оно не хлопочет об их переводе отсюда. Но Елизавета Михайловна Хлапонина меньше всего была обеспокоена именно этим, что госпиталь под обстрелом. Неясно, пожалуй, даже для нее самой ей чувствовалось, что так она сопереживает с мужем хотя бы отчасти то, что делается на третьем бастионе и около него, а более ясно в ней возникала боязнь, что до Северной стороны труднее будет доставить раненого с третьего бастиона, что придется перевозить его через Большой рейд на шаланде, что он много крови потеряет дорогой, что испытает страшно много боли от толчков на такой длинной дороге… Наконец, пугало ее еще и то, что на Северной стороне было Братское кладбище, куда ежедневно на подводах возили десятками сразу убитых и умерших от ран.
В полдень 8 октября она вышла из госпиталя затем, чтобы немного подышать свежим чистым воздухом, взглянуть на голубое небо, на золотые листья тополей и белых акаций, которые были посажены кругом госпиталя, а главное – чтобы посмотреть туда, в сторону этого ужасного третьего бастиона.
Как раз в это время солдаты подносили сплошь окровавленные, без перемены служившие уже который день носилки с ранеными.
Это было так обычно для нее в последнее время, что вот именно эти носилки и в этот именно час совсем не показались ей как-нибудь особенно тревожащими: просто вот принесли еще кого-то, еще одну несчастную жертву войны. Подойдя к носилкам, она открыла лицо раненого, ничего не спросив у солдат, открыла по создавшейся уже привычке и… отшатнулась.
То, чего она ожидала – отнюдь не веря в это, впрочем, – все последние дни, оказалось вдруг до того неожиданным, что потрясло ее всю с головы до ног, как электрическим током: на носилках лежал ее муж, глаза у него были открыты, и рот открыт, но он глядел совершенно бессмысленно и не узнавал ее, и из открытого рта его не вырвалось ни одного слова, ни даже стона…
– Митя! – крикнула она. – Митя!
Солдаты, не опуская носилок, но не двигаясь с ними и вперед, смотрели на нее с недоумением, но участливо, догадавшись уже, кем она приходилась раненому офицеру, но раненый не изменил ничего в своем взгляде и не закрыл рта.
Тогда она вскрикнула и упала в обморок рядом с носилками, ничком, лицом в опавшие с тополей листья…
Осмотрев Хлапонина, старший врач госпиталя решил, что он, раненный в плечо и сильно контуженный в голову, пожалуй, может оправиться, если только за ним будет тщательный уход и если будет лежать он подальше от грохота орудий.
На другой же день Елизавета Михайловна повезла своего мужа на извозчике в Симферополь.
VДвенадцатая дивизия, посланная Горчаковым 2-м на помощь Меншикову, начала подходить эшелонами, начиная с 3 октября, а 9 октября уже все четыре полка ее, Азовский, Днепровский, Украинский и Одесский, были в сборе у деревни Чоргун, в тылу позиции интервентов. Дивизия была почти полного военного состава – пятнадцать тысяч штыков.
Однако как раз в это же время большие подкрепления получили и интервенты: в Париже и Лондоне хотели покончить с Севастополем как можно скорее и потому не скупились ни на войска, ни на издержки по их перевозке.
Из Варны приплыла к французам бригада африканских конных егерей под командой генерала д’Алонвиля, бригада пехоты генерала Базена и дивизия Лавальяна. Так что число французских войск выросло до пятидесяти тысяч, английских же с прибывшим подкреплением – до тридцати пяти тысяч.
Русская армия численно значительно (тысяч на двадцать) уступала к 9 октября армии интервентов, хотя, кроме 12-й дивизии, к Севастополю подошли: Бутырский пехотный полк, 4‐й полк 17-й дивизии генерала Кирьякова, запасные батальоны Минского и Волынского полков, Уральский казачий полк, батальон стрелков, батальон пластунов и другие мелкие части.
Наконец, Горчаков, кроме своего 4-го корпуса, отправил Меншикову и двести тысяч серебром, потому что боялся, что у него мало денег на содержание войск. А так как Меншиков больше нуждался в порохе, чем в деньгах, то несколько тысяч пудов пороху, предназначенного для Бендер, были отправлены по приказу Горчакова в Севастополь; 10-я и 11-я дивизии шли сюда же ускоренными маршами.
Однако Горчаков писал при этом Меншикову (конечно, по-французски): «Войска, посылаемые вам, хороши, но вы не поддавайтесь на их хвастовство: они скажут, что готовы штурмовать небо. Дело в том, что они будут стойки при защите данной местности, но не ждите от них смелых атак. У неприятеля слишком большой над нами перевес в вооружении. Храбрейшие из начальников и офицеры бросятся, как угорелые, и будут выведены из строя, а все войско потом покажет тыл. Говорю вам это по опыту. Считал долгом предупредить вас об этом. Впрочем, говорю это для очищения совести, убежденный, что будете стараться затягивать дело, не рискуя ставить его на одну неверную карту…»
Такие советы давал умудренный Дунайской кампанией Горчаков 2-й, но совсем другие, не советы уж, конечно, а приказания, получал Меншиков от Николая.
Самодержец требовал наступательной войны и считал, что посылаемых светлейшему подкреплений для этого вполне достаточно. Он писал ему: «…Остальные две дивизии 4-го корпуса следуют к тебе безостановочно, и, таким образом, любезный Меншиков, сделано все и, смею сказать, более, чем почти можно было, чтобы помочь тебе уничтожить замыслы вражьи. Остается молить Бога, чтобы это, последнее уже, подкрепление дошло еще вовремя, чтобы спасти Севастополь».
Стремясь всячески руководить Крымской войной из гатчинского дворца, Николай не только не хотел считаться с технической отсталостью своей армии, не только ожидал от нее исключительных подвигов, но еще и предупреждал своего главнокомандующего в Крыму, что больше подкреплений он не получит. Единственно, что он обещал ему еще, это прислать к нему двух своих сыновей – Михаила и Николая. Если он думал обрадовать этим Меншикова, то, конечно, ошибся.
«Европейский рыцарь», как любил себя называть русский самодержец, имел огромную по тому времени армию под ружьем, но она была распылена по западной границе и Кавказу, причем для защиты одного только Петербурга и прилегающих к Рижскому заливу берегов сосредоточено было сто семьдесят тысяч.
Но русская власть в Польше тоже, по его мнению, нуждалась в сильной защите – так же как и граница с вероломной Австрией, военного выступления которой, притом очень большими силами, он не переставал бояться.
Наконец, интервенты могли ударить и на Одессу, и на Николаев, на Херсон, потому и здесь нужно было держать сильные гарнизоны…
Английский адмирал Непир, хвастливо обещавший в Лондоне «позавтракать в Кронштадте, а отобедать в Петербурге», правда, держался на приличной дистанции от Кронштадта, но все-таки крейсировал в Рижском заливе; кроме того, англичане делали попытки нападать и на Соловки, и на Петропавловск-на-Камчатке, как бы желая показать вездесущность и всемогущество своего флота.
Это обилие уязвимых мест заставляло Николая быть прижимистым в расходовании войск на Крымскую кампанию: ему все казалось, что здесь только демонстрация, а настоящий сокрушительный удар ему готовится Парижем и Лондоном где-нибудь в другом месте.
В начале 1850 года, то есть всего за три года до начала Восточной войны, Корнилов был командирован Лазаревым в Петербург к Меншикову как к начальнику главного морского штаба, чтобы исходатайствовать нужные суммы для укрепления Севастополя как порта. Меншиков направил Корнилова непосредственно к царю, который и дал ему аудиенцию, очень примечательную тем, что на все просьбы Корнилова Николай отвечал однообразно:
– Понимаю, что надо бы это сделать: сам люблю во всем порядок, – да денег нет!.. Хотел бы дать, да не из чего: за что ни возьмешься, везде требуется монета!.. Денег нет, денег нет… Что делать с этим, когда их так много нужно?..