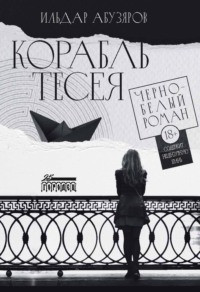
Корабль Тесея
Старенькая бабушка, потрепанная и облезлая, как здешние коты, пропахшая нафталином, почему-то проявила ко мне благосклонность. Видимо, потому, что «начальник присваивал все Мелиссины мысли и идеи». А потом, «чтобы изжить Мелиссу из музея и со света, ее и вовсе обвинили в каком-то страшном преступлении», «в воровстве загадочных папирусных манускриптов и каких-то ценных артефактов. Говорят, Ларца!», «слухами земля полнится».
– У нас ведь как, – доверительно шепнула она, – если тема принадлежит руководителю, пока тот не напишет о ней свои труды, все работают на него как проклятые, как рабы на строительстве пирамид. Я вот до сих пор поэтому кандидатскую не защитила.
– Странно это, – не соглашался я. – Я хорошо знаком с Мелиссой. Что-что, а украсть из музея, с ее трепетом и преклонением перед культурой, она не могла.
– Не знаю, не знаю, – нервно трясла головой старуха, – но вам лучше уходить. Вам, может быть, ничто не угрожает, если вы честны, – подмигнула бабуся. – Но меня могут и в сообщники записать.
2И все. Никакой больше информации. Ни адреса, ни телефона. Страница Мелиссы заблокирована, телефон отключен. С ней никак больше нельзя было связаться. Чернота, пустота, забвение, одиночество.
Последнее, что она мне дала, были слова. Точнее, несколько слов «Последней поэмы», намотанных на магнитную ленту и оставленных в кассетнике: «Ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня». Это была забытая в магнитофоне песня на стихи Рабиндраната Тагора. Длинное имя, которое я потом пытался расшифровать, как и все, связанное с Мелиссой.
Сколько же загадок она мне оставила? Например, длинное прощальное письмо, которое я вновь и вновь переслушивал, отматывая обратно магнитную ленту карандашом, потому что кнопка перемотки на магнитофоне сломалась:
Если увидеть пытаешься издали,Не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай!Что увидеть? Кругом сплошные загадки. Розеттский камень. Нельзя, что ли, было оставить хоть какой-нибудь ключ, а не химический карандаш в тумбочке, которым мне вновь и вновь приходится перематывать пленку на кассете.
Ты погляди, ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня.Полночь забвенья на поздней окраине жизни твоей.Я оглядываюсь: за окном действительно полночь, а на столе все еще лежат таблетки от бессонницы и депрессии, у кровати – тапочки, на подошвах которых написана очень смешная фраза, в ванной – мочалки. Я покупал на Сенном рынке две – лазоревую и салатовую. Два моих любимых цвета. Предложил ей выбрать. Может, она выбрала салатовую. Теперь у меня почему-то появилось желание выяснить. Я мылся все той же – лазоревой с оранжевой каймой, представляя, что я в Александрии. Береговая линия тридцать два километра. Пляжи, кафетерии, зонтики от солнца. Мочалка была длинной и пушистой, в нее можно было закутаться, как в махровое полотенце.
Знаю, когда-нибудь с дальнего берега, с давнего прошлогоВетер весенний ночной принесет тебе вздох от меня.Я ложусь на кровать, вдыхаю запах тела и волос на подушках и простынях, который с каждым часом, с каждой минутой, выветриваясь, становился все слабее. Словно вздох с другого берега.
Не вытерпев одиночества, я бросаюсь в ванную и вдыхаю аромат мочалки. Она пахнет ее мылом. Зарываюсь ноздрями в треугольники жесткого ворса, который мог впитать пот из ее пор, внюхиваюсь в обломки-обмылки, которые остались томиться в мыльницах, словно куски мачт в утлых лодочках.
Это не сон, это не сон,Это вся правда моя, это истина.Какой уж тут сон. Она сварила это мыло сама, каким-то историческим способом, попутно рассказывая, что в древних египетских папирусах есть рецепты производства мыла, мол, животные и растительные жиры следовало нагревать и смешивать вместе с щелочными солями с берегов Нила и ароматными маслами с берегов Евфрата.
Мелисса частенько экспериментировала на кухне. В домашних условиях варила мыло и шоколад, делала свечи и фигурки. Некоторые остались в кухонном шкафчике.
Ветер ли старое имя развеял,Нет мне дороги в мой брошенный край.Почему ей нет дороги назад? Чего она так боялась? Чего опасалась? Видно было, что Мелисса собиралась быстро и в спешке не взяла много вещей: хромированные ложки, ситечко от бабушки, фамильная брошь и прочие украшения-безделушки. В шкафу остались брошенными множество ее теплых зимних вещей: сапоги, дубленка с меховым воротником, шерстяной пуловер, длинный мягкий шарф…
Вспыхнет ли, примет ли облик безвестногоОбраза, будто случайного,Примет ли облик безвестного образа,Будто случайного.Иногда я открывал шкаф и смотрел на эту ее дубленку на вешалке в сумерках, словно на силуэт человека в дверном проеме…
Это было невыносимо. Я снова зарывался в запах, как пес, желающий взять след, нырял в память, скрывался с головой в воспоминаниях. В воспоминание, в котором мне три года и мать вдруг берет и уезжает к родне, не предупредив нас с братом, и я ношусь по комнате с криком. А за окном тучи норовят спрятать от меня луну.
3Я думал о другом Ниле, о Ниле Невского, который однажды уносил ее тело все дальше от меня вниз по течению. Уносил безвозвратно прочь, как труп покойницы, труп утопленницы с картин прерафаэлитов, которых она так обожала.
Я уплываю, и время несет меня с края на край,С берега к берегу, с отмели к отмели… друг мой, прощай.Из ванной я возвращаюсь в комнату и с разбегу кидаюсь на постель. Матрас раскачивается под моим телом, словно лодка. Подушка захлестывает меня тяжелой волной, одеяло, словно водоросли, спутывает ноги и руки, когда я в бешенстве и бессилии перекатываюсь по простыням, которые пахнут теперь уже не столько остатками запахов Мелиссы, сколько уже какой-то влажной тиной.
Жива ли Мелисса? Что с ней стало? Может, ее убил бывший дружок, а тело пустил по течению на корм рыбам?
Смерть побеждающий вечный закон —Это любовь моя. Это любовь моя.Почему Мелисса не отвечает ни на одно из моих длинных и проникновенных писем? Почему удалила себя из сетей и поменяла все телефоны? Почему не оставила мне хотя бы зацепку? Хоть какую-нибудь связующую нас нить?
Не может быть Мелисса со мной такой жестокой. Она бы обязательно откликнулась. Дала бы о себе знать.
Это любовь моя. Это любовь моя.Это любовь моя. Это любовь моя.Может быть, Мелисса не так и сердится на меня? Может, она выключила все телефоны и удалила все аккаунты, чтобы полиция не могла взять ее след? Вдруг она действительно что-то украла? Может, она не связалась со мной и не позвонила, потому что боится, что полиция придет ко мне и найдет здесь что-нибудь важное? Я хватаюсь за эту мысль, как утопающий за соломинку, через которую она тянула самодельные коктейли.
Но что? Книги? Посуду? Эти соломинки да бумажные зонтики?
Я вскакиваю, хватаю с полки первую попавшуюся толстую книгу и распахиваю ее. На старинной гравюре изображено чудовище с песьей головой, за которым лунной походкой, ладони вперед от бедра, ноги не сгибаются в коленях, ступни не отрываются от пола, идут какие-то чуваки. Хотя наверняка эти чуваки – фараоны. И над всеми ними катится-ползет диск луны.
«Надо бы еще раз сходить в Эрмитаж», – эта мысль помогает мне немного успокоиться и провалиться в сон.
4А по ночам мне часто снится, как я вскакиваю и бегу ее искать. Почти каждую ночь встаю и выхожу за ней на улицу в темноту. Я, наверное, действую как песьеголовый безумец или безбашенный наркоман в поисках очередной дозы. В надежде на закладки под окнами домов: мозаичный дворик на Чайковского, чугунно-механические ветки в Сангальском саду, кафельный туалет в баре «Саквояж шпионки», нос майора Ковалева во дворах университета. Милые мелочи и достопримечательности, в которые так важно сунуть уже свой нос. «Импрешион – главное в жизни», – по словам Мелиссы. Порой мне просто необходимо вдохнуть через ноздри бензиновый кумар, выпить «закатный» коктейль или уколоться о горящий безумием взгляд бредущего навстречу старика.
Я должен хоть что-то получить внутривенно, хоть какие-то новые впечатления, чтобы снять охватывающую меня боль и ломку по Мелиссе. Мне так тоскливо и одиноко, что я жажду воткнуть в себя иглу одного из шпилей, будто они – поднятые доктором шприцы над горизонтальным телом больной старухи или чахоточного юноши. Этот город в белые ночи и вправду походит на бледное тело умирающего, протянувшего ноги проспектов и руки улиц. На тело зарубленной топором старухи-процентщицы или ее беременной сестры Лисаветы. «Расчленить и выкинуть в реку нахер», – как порой говорит Радий.
В поисках подобных утешений вялой, мотающейся наркоманской походкой я брожу по городу, куда подскажет мне сердце. Я вглядываюсь в облик каждой мелькнувшей на горизонте девушки. Некоторые образы на миг внушают доверие и надежду, и тогда боль отпускает меня, и я чувствую прилив счастья.
Со стороны я похож на тех странных типов, от которых встречные люди шарахаются в ужасе. Я порой прячусь в круглосуточных массажных салонах, притаившихся в полуподвалах за массивными железными дверьми. Как Орфей, я спускаюсь к Эвридике, когда мальчик-зазывала протягивает мне рекламу стриптиз-клуба «Трибунал», ночного бара «Сайгон» или интим-салона «Бангкок». Массаж воротниковой или какой-нибудь еще зоны еще никому не повредил.
А потом можно засесть до самого утра в караоке-баре или ночном клубе. На дискотеках у диджея, если есть такая возможность, и в караоке я то и дело заказываю песню Ирины Отиевой. Песню, в которой она обещала возвращаться в случайных образах и обликах:
Ты погляди без отчаянья, ты погляди без отчаянья…Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайного…Примет ли облик безвестного образа, будто случайного…Это не сон, это не сон, это вся правда моя, это истина.Смерть побеждающий вечный закон – это любовь моя.Так сплю я или нет?
5Впрочем, бывают и другие сны, в которых я по-настоящему счастлив. Бывает, приснится, что мы снова вместе с Мелиссой, и она даже знакомит меня со своей мамой и своей сестрой, вводит в семейный круг, а это значит, что скоро возможны свадьба и счастье.
И тогда я бегу прочь из ночных клубов, бегу прочь, вспоминая, как мы бежали к этнографическому музею, как она брякалась на колени у картин Пикассо или Писсаро в Эрмитаже, где все пространство разобрано на клетки и точки, на мельчайшие частицы… Как мы, запрокинув головы, смотрели на светящиеся в лучах кинопроектора пылинки, словно в планетарии за хаотичным движением больших и малых планет. Мы специально на некоторых фильмах не глядели на экран, а искали смыслы в каких-то второстепенных вещах, а если говорить честно – друг в друге.
– Ты только допусти, – пыталась убедить меня Мелисса, – что мое «я» – всего лишь пылинка, однодневная моль в океане распада. Так стоит ли ревновать и мучить себя из-за такой мелочи? Стоит ли тешить эго властью надо мной? Заметь, ложное эго, потому что над всем властны лишь звезды и только им все подчиняется. И если нам суждено быть вместе, то мы непременно будем, а если нет, то не обессудь…
– Постой, ты только что назвала себя молью? И ты хочешь, чтоб я воспринимал твои слова всерьез?
Я слушал Мелиссу и улыбался, думая, что она такими высокопарными фразами набивает себе цену, пускает пыль в глаза, надувает щеки. Я вспомнил, как мы хохотали всю ночь, потому что она смешно надувала щеки и живот, изображая бегемотика, который проглотил арбуз. Я гладил ее живот и целовал ее раздутые, как у бегемотика, щеки и ноздри.
Сам же я пытался разглядеть в пылинках нечто вроде Млечного пути, с его звездами и галактиками, идущими завихрениями от точки взрыва и света – кинопроектора – до большого экрана, на котором в этот момент показывали фильм о давно исчезнувших цивилизациях. Что-то опять про Древний Египет. И Барбара Брыльска, та белобрысая снегурочка, с которой мы встречали каждый Новый год, бросалась навстречу фараону своим жарким и очень смуглым телом. Темными сосками под прозрачной туникой…
Нет, так больше не может продолжаться! Должно же остаться после нее что-то, кроме этих едва уловимых запахов и нескольких фраз! Не могла она просто так уйти? Исчезнуть из моей жизни навсегда? Взять и разрушить все моментальным решением. Умереть, кануть в небытие.
6Для хозяйки квартиры, она же начальница ЖЭКа, которой я задолжал приличную сумму денег за коммуналку, я делаю вид, что устроился в контору. Я даже прикупил кожаный портфельчик в секонд-хенде. Этот атрибут успешной жизни я сдаю в круглосуточно работающий гипермаркет. Запираю в ящичек для сумок и пакетов. Вечером я портфель забираю и иду в дешевую забегаловку. Хозяйка, у которой я приобрел квартиру по социальному найму, видит, что я куда-то хожу, и думает, что деньги скоро будут. Так же думает и мой сосед по лестничной клетке. Он работает в булочной пекарем, поэтому встает раньше всех. Другой мой сосед, сожитель первого соседа, устроился подрабатывать, на мое место, дворником. На самом деле он студент-актер, но много ли заработаешь на лицедействе?
И вот мы собираемся на работу вместе: перемалываем кофейные зерна в кофемолке, варим кофе, мылим шею и лица мыльной пеной. Только чтобы одинаково взбодриться кофеином и отразиться в одинаковом кафеле. Я слышу, как скрипит за стенкой кровать, кофемолка или шея. Глядя в замызганное и заплеванное зубной пастой маленькое зеркальце в ванной, я представляю, как там за тонкой стенкой и зеркалом лицом ко мне и с щеткой в зубах стоит мой сосед. Чистит зубы, а потом и обувь, которая скоро покроется пылью и мукой – читай, трухой человеческих усилий. Иногда, по весне, он даже натирает ботинки гуталином. Я чувствую этот запах на лестнице.
Мы выходим на улицу, когда почти никого нет, когда еще не слышны звуки заводских гудков. И лишь ветер от первых поездов разносит запах сырости и метрополитеновской пыли.
Вечером иногда встречаемся на общей лестничной площадке. Уставшие и недовольные. Или, наоборот, довольные. Перекидываемся парой слов и расходимся по квартирам, в которых они жуют свой ужин и смотрят телевизор, а я пью чай с мелиссой. Затем, обессиленный, ложусь спать под музыку, но долго не могу заснуть. Все ворочаюсь и думаю о Мелиссе.
7Чтобы встретить Мелиссу и как-то жить, я отправился работать в метро. Ныряю туда, где полно людей и воняет ссаньем. Поймите меня правильно, в четырех стенах я просто задыхаюсь. Не могу находиться наедине с собой. Постоянно думаю о ней. Каждый предмет, каждый звук, например стук каблуков в гулком подъезде, напоминает мне о Мелиссе.
Сначала я ходил в метро, чтобы отвлечься. Но постепенно я понял, что в таком потоке мыслей и людей можно и заработать: писать или заниматься любимым делом. Например, петь о своей любви, кинув шапку наземь. Потом один умный человек, Алистер, предложил заняться каллиграфией. И вот они, потекли денежки.
Впрочем, я не всегда в поисках Мелиссы ныряю в преисподнюю. Иногда я залезаю на крыши или на колоннаду Исаакиевского и смотрю на город сверху: на шпили башен, на купола соборов, на иглу Петропавловки. На разбросанные мозаикой огни. В дни звездопада ночной город блефует и бликует, прежде чем распасться на огненные пятна, раствориться в утренней дымке.
Подо мною с одной стороны дворец-усадьба, в который Толстой привел Наташу Ростову на ее первый бал, с другой – раздробленные бары Думской, в которых танцуют, дожидаясь открытия метро, юные и уже потасканные современные шестнадцатилетние Наташи.
В половине шестого утра метро раскрывает пасти входов, чтобы проглотить в свою утробу бледных измученных гуляк и повес. Метро – вампир, оно впитывает энергию своих обитателей и живет за счет этой энергии. Тепловой и психической. Ему важно раскачать сознание и психику.
А я на крыше, над Невским, на не остывших за ночь листах железа пишу иероглифы водой из буты-дочки. На крыше я успокаиваюсь. Вот-вот сверкнет флюгер в снопах света, опять появится солнечный журавль, и вместе с солнцем силы на новый день, на новые поиски Мелиссы.
8Новые поиски по старым местам. Бег по кругу. От бессилия я отправился снова в музей. Раньше я ходил в Эрмитаж, чтобы посмотреть картины. Прочитаешь в книге про малых голландцев, про какую-нибудь сережку или брошку или воблу с картошкой и снова идешь разглядывать бытовую сцену. Силки для птиц, прорубь для людей. Но сейчас мне было необходимо пристально рассмотреть сцену с Мелиссой. Что же там с ней все-таки случилось, что пропало из музея?
Я снова расспрашивал бабушек-смотрительниц и даже набрался смелости поговорить с охранником.
– У нас есть начальство, вот к нему и обращайтесь с вопросами, – реагирует одна старушка, которая видела нас с Мелиссой.
Другая же, сердобольная, мягкотелая, рыхлая и древняя, как диван-шлафбанк Пушкина, поведала, что готовилась какая-то выставка египетских артефактов, вывезенных после Второй мировой войны нашими войсками из берлинского музея. С последующей передачей немецкой стороне.
– С передачей?
Оказалось, такие передачи были уже и раньше. Так, в берлинский музей уже возвратилась голова Нефертити. А готовящуюся выставку спонсировал «Газпром». Это был акт доброй воли для налаживания отношений в период строительства газопровода «Северный поток – 2» и начавшихся санкций.
Мелиссу, как практиканта-аспиранта и младшего научного сотрудника, посадили делать описи артефактов и готовить выставку. И вот в какой-то момент Мелисса пропала. А вместе с ней якобы пропала и личная шкатулка-ларец для украшений одной знатной дамы. Хотя, возможно, это был ларец фараона-женщины.
– Мелисса забрала ее, потому что решила, что шкатулка принадлежит ей, – сразу восклицаю я. – Она считает себя реинкарнацией Нефертити, а значит, законной наследницей всех ее личных вещей.
– Я тоже себя считаю наследницей Екатерины Великой, – смеется старушка, – хожу в Эрмитаж как домой уже тридцать лет. Все здесь, считай, мое!
– Шкатулка была с предметами? С украшениями?
– Может быть, и с украшениями, а может, и простая пудреница с зеркалом. С щипчиками для волос, с сурьмой там какой-нибудь… или белилами и румянами.
Ха, вполне может статься. Зная Мелиссу, ее одержимость Египтом и своими фантазиями, зная ее упертость и ревнивость, а также перфекционизм и внимание к своей внешности, такого исключать было нельзя.
– Только никому не говорите. Нам строго приказано держать язык за зубами до начала экспозиции. Не дай бог пресса узнает. Тут бед не оберешься… Политика замешана!
– Ок, – обещаю я, зная, что меня не остановить. Я буду копать и копать, как копает сугробы мой сосед, а если понадобится, ходить из бара в бар, спрашивая о Мелиссе у первых попавшихся встречных.
Глава 2
Данаи
1Здесь, пожалуй, пришел черед рассказать о первом этапе моей любви, когда, привлеченный плоским картонным изображением девушки-танцовщицы, я подошел к дверям бара «Трибунал», из которых так и несло вселенским загулом. Гул в ушах, гул проспекта, гул беснующейся толпы, гул подземки, гул в наушниках, будто ты заперт в бочке, выброшенной в море, или в ларце с прочным замком.
Непрестанное сплошное эхо: тысячи голосов, крики с улицы, не то шепот, не то клекот, который получается, если приставить стакан к стене кромкой, а дном к уху. Абракадабра непонятно как оказавшихся за твоим столиком людей. Кто они, что им нужно, что пытаются втолковать тебе сквозь туман, почему пытаются заговорить именно с тобой?
До какой сути моей внутренней бездны стараются докопаться?
Что им промычать в ответ, что сказать, прежде чем пучина времени и событий поглотит их и меня окончательно? Белый накачанный бык несет через зал на своей спине красавицу, похищенную с барной стойки. Игровые автоматы проливаются золотым дождем. Пять коров в ряд – и слышится звон монет.
– Вот выиграю, – говорит забулдыга, – и поеду с телкой в Европу.
– Ты не выиграешь.
– Почему?
Ответ очевиден. В баре «Пьяный койот» телки танцуют прямо на барной стойке. У одной из девушек на тончайшей коже плеча татуировка. С китайского этот иероглиф переводится «Я шлюха». Так над ней прикололись в Китае, где она прошлым летом подрабатывала моделью.
– Девушка, вы знаете, что написано у вас на плече?
– Нет.
– Тогда лучше сотрите.
– Почему? – приближает губы к моему уху.
Мне хочется поцеловать их. Схватить и написать на гладкой поверхности ее тела новые иероглифы любви. А старый кусок кожи выдрать.
2Текильщица, кружащая от посетителя к посетителю, предлагает мне выпить прямо с ее гладкого живота. Она вооружена ковбойскими шляпой, сапогами, кожаным поясом и патронташем стопок. Дерзкий взгляд, как дуплетом в упор. Бутылка крепкого алкоголя в кобуре.
– С кожи, текилу?
– И соль с лаймом. – Зеленые глаза сверкают из-под полы шляпы.
– Это как писать иероглифы водой на земле.
– Так будете пить? – не понимает молодая нимфа.
Вопросы и ответы, которые совершенно не важны в масштабах не то что вселенной, а даже одного Невского проспекта, с его Российской национальной библиотекой, на полках которой пылятся «Диалоги» Платона и «Поэтика» Аристотеля. Так ради чего мы вообще открываем рот и перекидываемся мнениями с этим важным господином, который подсел ко мне и подливает из бутылки вино? Пей молча, дружище. Твои слова ровным счетом ничего не значат.
– Любовь и ненависть две стороны монетки, – рассказывает кто-то про свою девчонку. – Была у нас какая-то любовь, а теперь монетка упала другой стороной, и любовь превратилась в ненависть. Что-то пойдет не так, и все… Понимаешь?
– Любовь относительна, – отвечаю банальностью на банальность, – но это самая интенсивная из переживаемых эмоций. Обычно тех, кого мы любим, мы и ненавидим. В отличие от посторонних прохожих на улице… Вот на тебя и твои истории мне абсолютно наплевать… Понимаешь?
Сумма общих знаний. Многие, не только мы с тобой, лишь перебирают знаки или наборы устоявшихся символов, как кусочки пазла или костяшки домино. Повторяют их за другими, лишь бы не молчать.
– Мне на тебя в общем-то тоже с высокой колокольни, приятель…
Даже шутки и ругательства здесь клише. Набор пошлостей, которые не принадлежат тебе и легко перетекут из твоей сумы в суму другую. Тут редко услышишь что-то по-настоящему оригинальное и ценное.
– Ну же, дружище, докажи мне, что ты не запрограммированный биоробот, – подзываю я к столику поющего одиночку в караоке, чтобы спеть что-нибудь вместе.
– Тебе нравится «The End»? Обожаю Джимми Моррисона. «This is the end, beautiful friend, – напевая, предлагает песню мой случайный знакомый. – This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans».
«Это конец, – думаю я. – Люди с их репликами дескретны, как какая-нибудь старая затасканная компьютерная дискетка, которую можно фрагментировать, разбить на сектора и очистить. Стереть и тут же записать на них любую новую информацию».
– Помолчи. Пей молча, дружище. – Я встаю и направляюсь к дверям, чтобы поменять пластинку. – Пей и не надейся тут что-нибудь выиграть или кого-нибудь удивить.
Если докопаться до дна, ты – всего лишь пустая бутылка, пустая посудина. «Пустой, как пакет из ЦУМа», – говорят в таких случаях.
3Точно! Каждый человек, особенно женщина, похожи на бутылку. На аутентичную посудину из глины с каким-то посланием. С посланием от Бога в море накатывающих волн. Всего несколько слов или фраз, отправленных тебе в пучине жизни. Вложенных чьей-то рукой и предназначенных, может быть, и не для тебя. Но сказали их по инерции тебе.
Говорят, это судьба. Думаю, вряд ли. Хотя, конечно, судьба, но не такая важная. Потому что это послание еще надо расшифровать, как критские надписи на глиняных табличках. Линейное письмо А, линейное письмо Б…
Человек линеен, история линейна, время линейно, его не остановить. Но хочется ставить зазубрины, некие черточки, отметины на этой линейке, подводить итоги, подчеркивать, отмечать важные этапы и периоды.
Сейчас я не помню, не знаю, как почувствовал важность тех дней. Не помню, потому что был слегка не в себе, был ужасно пьян и сам не ведал, что творил, что слушал и что говорил. Помню только гул прилива, который снова и снова звал меня в плаванье на улицу, в порт, а потом гул отлива, выталкивающего меня назад в квартиру на отмель дивана.
«А что, если, – думал я тогда, – что, если из нескольких миллиардов пустых глиняных посудин только у одного внутри послание? У избранного Богом. Вот он берет одного из людей, как бутылку в баре, выпивает до дна, выжимает все соки, а потом запихивает в него послание для других людей. Так появляются пророки или поэты. Три типа безумия, по Платону: пророческое, поэтическое и молитвенное…»
Эта мысль тогда забавляла меня, и я вглядывался в глаза идущих мне навстречу людей, – то в мутные и грязные, то в кристально чистые, голубые, – чтобы понять, есть ли в них послание для меня.