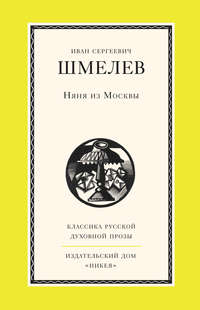
Няня из Москвы
«Никаких денег у нас не хватит ораву такую кормить, – колбасы по пять фунтов на закуску, сыру, телятины что… белых хлебов десятка по три, сахару не напасешься, – тыщи на месяц мало. Да диви бы на пользу шло!..»
А она, высуня язык, только отмахивается:
«Война, всем надо помогать… надоела, не твое дело!»
Не мое-то не мое, а… Ну, мне уж под две тыщи задолжали, про себя не говорю, а лавошнику Головкову сколько должны, а он деликатный, только пошутит мне:
«Попомните доктору, Дарья Степановна… мы тоже и сахарок, и колбаску, и все протчее-иное и другое покупаем-с, а не от Ильи-пророка по знакомству получаем-с!»
Дадут ему сотню-другую – опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сынка забрали, в вошпитале лежал, будто у него глаз не глядит, – ну, и старался барину услужить. А барин строгой был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну, и забрал сынка. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженый. И вот какой богомольный, Головков-то… хироносец был! А такой, хируги за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел – долой и долой. Они с барыней секрет знали – только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Ну, не внял, послал на войну сынка. А Головков в полицию донес: у доктора какие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же: по закону гуляют, от войны, – все калеки, по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал, за долги. Это когда и судов уж сурьезных не было, а барин заболели… нам в Крым бумага приходила, приносил с красной лентой какой-то, не гордовой, а другой… говорил барину – теперь можете не платить, когда еще вас разыщут, а теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали, а платить уж нам нечем стало, сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая… вот где это Дунай-река-то… Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала… Ну, как угодно, а то и вправду, запутаюсь.
XI
Да вот, представлять они стали… Катичка тут всех и покорила, так за ней и ходили табунами. Помните ее, барыня, – не такая она уж и красавица чтобы писаная, да еще и в себя не вошла, как следует… что ей – шешнадцатый только годок шел… и росточку была еще не полного, а телом еще не обошлась, цветочек еще, бутончик. Теперь бы и не узнали ее, какая авантажная стала, самостоятельная, и манеры теперь у ней, даром что тонкая-растонкая, а… на всех производит! В Америке она голодом себя морила и на палках крутилась, чтобы потощать… так уж там полагается, а то и денег платить не станут. А и тогда складненькая была, акуратенькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные, огромадные, живые такие… Барин все ее так – «ах, черные миндали, зажигают издали!» – пел все. Баринов у ней взгляд был, смелый. У цариц вот такие глаза бывают, гордые. А волосы темные, густые, папенькины, – «каштанчики мои», – все, бывало, так звал. А личиком беленькая-разбеленькая, сквозная вся.
Уж барин ее нахваливал! души не чаял, – «фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» – все так. А может, и маркизочка… забыла уж. И что такое?.. ну, каждого мужчину приворожит! Все-то в нее влюблялись. И чем только завлекала, я уж и не знаю. Еще совсем девочкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда уж глазками поводила-красовалась. А папенька ей все-то набивал: «ох, глаза… будешь ты погубительница сердешная!» Ну, она и приучилась заводить. Так вот головкой чуть повернет, глазками поведет… – откуда набралась! А то пройдется, так вся и изгибается, очень гарциозная. Прибежит ко мне, вытаращится:
«Правда, нянюк, особые у меня глаза, а?»
Посмеюсь-скажу:
«У кого какие, а у тебя такие».
А захвалили. Все-то ей про глаза ее, что вот какие… Да не умею сказать-то, как говорили… нет, не выразительные, а истомные, что ли?.. По-нашему сказать – с поволокою глаза, будто вот через что глядят, чисто вот обмирает, как тень на них. Один к нам ходил, актерщик… вот не любила беса!.. – тогда еще все внушал – «у вас глаза женщины!» Развалится на креслах, ножичком ногти точит, и все так, непристойно, – «же-нщина вы, малютка!..» А наши, умные, слушают. Поведет так, закатит, – будто она спросонков. И выучилась перед зерькалом вертеться. Особо плохого тут нет, покрасоваться-то… а к тому говорю, что уж очень собой-то занималась. И мамашенька ей пример давала. На что уж со мной, и то – уставится на меня, как на пустое место, словно вот через тень глядится.
«Ну, чего пялишься-то как нескладно, – скажу, – чисто ты пьяная!»
И все-то в головку набивали: «мы тебя за заморского прынца выдадим!» И нагадали: повидали мы их, заморских. И стали в нее, барыня, влюбляться. Конфектами завалили, вот какие коробки!.. и шелковые, и плюшевые, и цветы шлют, и корзинами, и так, некуда ставить, сад у нас прямо стал. Богачи стали наезжать, на своих лошадях, на автомобилях, на высоких колесах – беговой богач был… приличный народ, солидный. И шушеры много было, а и дилехтора бывали, и генералы… – мед-то как завелся, так вкруг и закружились. И смех, и грех. Повадился старичок к нам, военный доктор, начальник баринов, только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за шестьдесят было, сухенький только был и шустрый, и бородку брил, а под глазами-то наплыло, не закрасишь… видно, что битая посуда. И рот у него кривой был, раздерганный. А живой, ножкой об ножку терся. И холостой. Та его и закружила, насмех. И печенье ему выберет, скажет – «вот, любимое мое!» А он ей тоже – «теперь и мое любимое!», и цветочек в петельку ему, и душками попрыскает, илиотропом, любимыми… Он возьми и посватайся, одурел! Так все и обомлели, – начальник баринов. А она и глазом не моргнула: «дайте подумаю… я ведь совсем ребенок!» Так он и засиял! И сгубила старого человека: посылал-посылал цветы, да и простудился, помер, – у училища все дежурил, где теятрам-то обучали. И еще князь ее провожал, тоже немолодой, а со шпорами ходил, высокий попечитель был… из училища ее привозил и письма ей все писал, по-французски. И она ему писала, для прахтики. Писем у ней было… полна шкатулка. А духов было… как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вольет, кожу щипет… голова кружится, не войдешь. Барин, бывало, – «дай-к а, Катюнь, даров душистых, а то все вышли!» Меня душила… Приду к себе спать ложиться, – не продохнешь, все подушки позалиты. В церкву придешь, дух такой от меня, людей стыдно, – платье мне обливала.
Ну, все влюблялись. А молодые – так, высуня язык, и ходили, как опоеные. Чего ж один изгораздился для нее… Велела она ему из зологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял да и попадись: ночью клетку лисицыну продрал и потащил лисицу, – она ему все лицо ободрала. На месяц в «Титы» попал, а про Катичку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали – она и иссвоевольничалась, все-то ей нипочем, воображать стала из себя. А барыня не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила, только и слышишь: «заткнись, старая улитка!» – истинный Бог. Спать ложиться, – ну, вертеться перед трюмой да охорашиваться, даже и рубашонку снимет. Оправляю постельку ей… – шелковая, царская постелька у ней была, белая вся, ангельская постелька, – смотрю-смотрю на нее, ну так неприятно станет. Она уж и так, и так, и головкой, и плечиками, и… Да еще меня допытывает:
«А что, нянь…» – это когда в духе, ласково всегда – нянь, звала, а то все – ня-нька! а то еще выдумала – ня-нища! – «А что, нянь… красавица я, а? лучше меня нет?»
Насмех и скажу – попова дочь лучше. Шуткишутки, а так погибель и начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам, и так и сяк извертываться, – издивишься, откудова набралась повадкам! Плюну-скажу:
«Страмница ты, бесстыдница… ну, пристало ли девушке так себя красовать! на рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный».
И ласкова бывала со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует… ну, такая умильная. Она меня и теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стесняла я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне стыд, будто я пугала какая, голова непривычная, не я и не я… И вот тальма со стекляруском у меня, Авдотья Васильевна подарила, износу нет, – так ей она не ндравилась: страмлю я ее, допотопная я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз, расскажу-то…
Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться, за шею обнимет и ну целовать. Заерзает-заерзает у меня, прижмется комочком… – «Скажи, нянь… буду я счастлива, буду я любима, буду я богата?..»
И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу:
«Ах, Катюньчик… и любима будешь, и богата… а вот счастлива ли будешь – это уж как Бог даст».
Затискается-заерзает, словно ей невтерпеж:
«Ах!..» – воздохнет. А я и пошучу-поразвлеку:
«Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, а хоть за курицу, да на свою улицу!»
Она так вся и воссияет!
«Да как ты хорошо-складно! Да скажи еще… да какая ты му-драя… Василиса ты Премудрая!..» – И затуманится вся, зажмурится… – «Ах, хочу быть счастливой, хочу-хочу, нянюк… большого счастья хочу!..»
А выпало-то вон что. Счастье… да какое же это счастье, барыня… что крутимся-то так, партреты ее печатают? Душеньку ведь ее я знаю, спокою у ней нет… и себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать… – не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу, – и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и… Ворона намедни, гляжу, на суку сидит, каркает… – совсем, будто, наша ворона, тульская!.. Поглядела, – не та ворона, не наша… у нас в платочке.
Ну, хорошо. И будоражная тогда у нас жизнь пошла, хавос и хавос. Война такая, некрутов гонят, раненых везут и везут, конца не видно, и по улицам на костылях все, да партиями, у всех горе кругом такое… того забрали, того покалечило, того убили… у Авдотьи Васильевны братца убили, и крестника моего ранило, рука повисла, – рыбкой который торговал… А у нас чисто балаган-пир: и гости, без исходу, и музыка у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и… – так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали, доверялись… Ну и скажут, бывало:
«Кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли, для удовольствия… ишь, какие все жеребцы-то у вас жируют, а воевать не идут».
Это как к концу стало, а то все были деликатные. Мы им и винца для здоровья подносили, барин нам доставал… – и пироги им пекли на праздники, – так-то довольны были!..
И отыскала барыня в лазарете где-то полковника… такого-то орла-красавца, в крестах весь, – ходила она за ними. У ней и косыночка была – милосердая сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было… – он и влюбись в Катичку. А у него трясение мозгов было, с пушек, – он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катичка, примечала я, задумываться стала. Уж все разъедутся, а он сидит и сидит, в усы себе глядит. Да Катичке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится:
«Голубой вы ангел! Вы сошли с неба!..» – и руки к ней, вот так вот.
А она губки кусает, так жалко ей. Мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей! Насварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы ему – лучше бы не ходить. И барыня все расстроена, и Катичка какая-то такая, ждет все, когда придет… а сидеть мука с ним, с полоумным, и жалко-то его… Он и не стал ходить, понял словно. Три дни не был, нам из вошпиталя звонят: где полковник, почему не является. Поехала барыня, а там и говорят: поглядите вон, обмерзлого сейчас нашли за заставой, в снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели, плакала даже Катичка. Да, забыла я… сказал-то чего он раз: «Голубой ангел! Зачем вы сошли к нам с неба?.. Кро-ви сколько!..» – и за голову схватился.
Не раз Катичка про это поминала, как всего уж мы повидали, намучились и сколько всяких смертей видали, горя человеческого… Вот вам, и помешался, а правду чувствовал, прознавал.
И вот тут у нас и случилось…
XII
Был у нас вечер, для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катичка со своими короводчиками надумала. Иван-Крестителя в колодце представляли! Его будто в темницу Ирод-царь посадил, в колодец, а Катичка царицу-поганку представляла, как она царя завлекала, чуть что не голая плясала, все у Ирода добивалась: отруби ему голову, за любовь! Страшно, барыня, глядеть было, – над святым прямо издевались, да еще и под музыку. И клюквы надавили, похоже чтобы на кровь было, как ей святую главу на серебряном блюде подали. Мы с Аксюшей, и еще набралось со двора народу, глядим из прихожей, – да чего ж это такой делают-то, а?! да как так попускают!.. Пришел черный, огромадный, с косарем, по самое пузо голый, и несет ей главу на блюде, из глины они слепили, и кровь будто с блюда капает, прямо Катичке на кисейку, и голую ее ногу видно. Стала она на главу глядеть, хохотать… – стук!.. – позади меня об пол что-то. Я так и вздрогнула. А это иконка из уголка упала, в прихожей которая висела, от жильцов осталась. Надвое и раскололась! Не сказала я своим, что их расстраивать, знаю – к худу. И Аксюша тоже – «ой, нехорошо как, к упокойнику!» Связала потом иконку, повесила. Лика на ней уж не видно было, старенькая, а словно Никола-Угодник-батюшка, по облику. И со двора которые были, стали уходить, – «ишь, – говорят, – как нехорошо!»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов