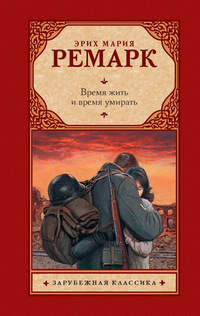
Время жить и время умирать
Мюкке пошел следом.
– Видали жополиза?! – сказал один из засонь, снова лег и захрапел.
Картежники продолжили игру.
– Будет уничтожен, – сказал Шнайдер. – Мы его каждый год по два раза уничтожаем. – Он глянул на свой листок. – Объявляю двадцать.
– Русские – прирожденные мошенники, – вставил Иммерман. – В финскую войну они показали себя куда слабее, чем на самом деле. Подлый большевистский трюк.
Зауэр поднял голову.
– Может, уймешься наконец? Больно много знаешь, да?
– Само собой. Ведь еще несколько лет назад они были нашими союзниками. А насчет Финляндии так высказался наш рейхсмаршал Геринг собственной персоной. Ты что, возражаешь?
– Ребята, хорош спорить, – сказал кто-то у стены. – Что вообще сегодня происходит?
Стало тихо. Только карты по-прежнему шлепали по ящику да капала вода. Гребер сел на свое место. Он знал, что происходит. Так бывало всегда после расстрелов и похорон.
Ближе к вечеру толпами повалили раненые. Часть сразу же отправляли дальше. В окровавленных повязках они шли с серо-белой равнины и уходили в другую сторону, навстречу блеклому горизонту. Казалось, никогда они не отыщут госпиталь, утонут где-то в бесконечной серой белизне. Большинство молчало. Все хотели есть.
Для остальных – тех, кто не мог идти и для кого уже не было санитарного транспорта, – в церкви устроили временный лазарет. Разбитую кровлю залатали, прибыл смертельно усталый врач с двумя санитарами и начал оперировать. Дверь стояла настежь, пока не стемнело, то и дело вносили и выносили носилки. Белый свет над операционным столом – точно светлый шатер в золотистом сумраке помещения. В углу валялись остатки фигур святых. Дева Мария протягивала руки, обрубки, без кистей. У Христа не было ног; казалось, распят человек, перенесший ампутацию. Раненые кричали редко. У врача еще были наркотические средства. Вода кипела в котлах и никелированных мисках. Ампутированные конечности медленно наполняли цинковую ванну из дома ротного. Откуда-то прибежала собака. Держалась возле дверей и возвращалась, сколько ее ни прогоняли.
– Откуда она взялась? – спросил Гребер. Они с Фрезенбургом стояли неподалеку от дома, где раньше жил поп.
Фрезенбург смотрел на дрожащую кудлатую животину, которая тянула морду вперед.
– Из леса, наверно.
– Что она забыла в лесу-то? Там для нее жратвы нет.
– Наоборот. Вполне достаточно. И не только в лесу. Повсюду.
Они подошли ближе. Собака настороженно повернула голову, готовая убежать. Оба остановились. Собака была голенастая, тощая, с рыжевато-серой шкурой и длинной, узкой головой.
– Псина не крестьянская, – сказал Фрезенбург. – Хорошая, породистая.
Он тихонько причмокнул. Собака насторожила уши. Фрезенбург снова причмокнул и заговорил с ней.
– Думаешь, она ждет, что ее накормят? – спросил Гребер.
Фрезенбург помотал головой.
– Жратвы и в лесу полно. Она не поэтому прибежала. Здесь светло и вроде как дом. По-моему, она ищет общества.
Из церкви вынесли носилки. На них лежал кто-то, умерший во время операции. Собака отскочила на несколько метров. Отскочила без усилия, будто отброшенная мягкой пружиной. Потом остановилась, посмотрела на Фрезенбурга. Тот опять заговорил, медленно шагнул к ней. Собака тотчас бдительно прянула назад, но остановилась и чуть заметно повиляла хвостом.
– Боится, – сказал Гребер.
– Да, конечно. Но собака хорошая.
– И питается человечиной.
Фрезенбург обернулся.
– Как и мы все.
– Почему это?
– Потому. И думаем мы, как она, считаем себя пока что хорошими. И, как она, ищем немножко тепла, и света, и дружбы.
Фрезенбург усмехнулся половиной лица. Вторая половина из-за широкого рубца почти не двигалась, казалась мертвой, и Греберу всегда было странно видеть эту усмешку, замиравшую у барьера на лице. Будто бы не случайно.
– Мы такие же, как и остальные люди. Идет война, вот и все.
Фрезенбург покачал головой, тростью стряхнул снег с гамаш.
– Нет, Эрнст. Мы потеряли меру. Десять лет нас держали в изоляции – в изоляции ужасной, вопиющей, бесчеловечной и смехотворной заносчивости. Нас объявили расой господ, народом, которому другие должны служить как рабы. – Он горько засмеялся. – Раса господ… подчиняться каждому дураку, каждому шарлатану, каждому приказу, – при чем тут раса господ? Вот все это здесь – ответ. И, как всегда, бьет он больше по невинным, чем по виновным.
Гребер неотрывно смотрел на него. Здесь, на фронте, Фрезенбург был единственный, кому он по-настоящему, полностью доверял. Они выросли в одном городе и давно знали друг друга.
– Раз ты все это знаешь, – наконец сказал он, – почему же ты здесь?
– Почему я здесь? Почему не сижу в концентрационном лагере? Или не расстрелян за неподчинение?
– Я не об этом. Но ведь в тридцать девятом ты по возрасту не подпадал под призыв? Почему же в таком случае пошел добровольцем?
– В ту пору я и правда под призыв не подпадал. С тех пор ситуация изменилась. Теперь призывают и тех, кто старше меня. Но дело не в этом. Это не оправдание. Да и проблемы не разрешились оттого, что я здесь. Тогда мы внушали себе, что не хотим бросать отечество на произвол судьбы, когда оно воюет, и не имеет значения, что случилось, кто виноват и кто начал эту войну. Отговорка, конечно. Такая же, как и прежняя, что мы-де участвуем, только чтобы предотвратить худшее. Ведь и это была отговорка. Перед самими собой. И больше ничего! – Он резко ударил тростью по снегу. Собака бесшумно убежала, скрылась за церковью. – Мы искушали Бога, Эрнст… понимаешь?
– Нет, – ответил Гребер. Он не хотел понимать.
Фрезенбург помолчал и уже спокойнее добавил:
– Ты и не можешь понять. Слишком молод. Кроме истерической свистопляски да войны мало что видал. А я еще на первой войне побывал. И время между войнами пережил. – Он опять усмехнулся, одна половина лица улыбалась, вторая осталась неподвижна. Улыбка набегала на нее, точно усталая волна, но преодолеть не могла. – Хотел бы я быть оперным певцом. Пустоголовым тенором с убедительным голосом. Или стариком. Или ребенком. Нет, не ребенком. Не ради того, что еще грядет. Война проиграна, это ты хотя бы понимаешь?
– Нет.
– Любой генерал, сознающий свою ответственность, давно бы ее прекратил. Мы сражаемся тут ни за что. – Он повторил: – Ни за что. Даже не за сносные условия мира. – Он махнул рукой в сторону темнеющего горизонта. – С нами уже не станут вести переговоры. Мы тут хозяйничали как Аттила или Чингисхан. Нарушили все договоры и человеческий закон. Мы…
– Это же всё эсэсовцы, – с отчаянием сказал Гребер.
Он встретился с Фрезенбургом, потому что не хотел встречаться с Иммерманом, Зауэром и Штайнбреннером, думал поговорить с ним о старинном мирном городе на реке, о липовых аллеях и о юности, а теперь все стало только еще хуже. Прямо заклятье какое-то. От других он помощи не ждал, но ждал ее от Фрезенбурга, которого в сумятице отступления давно не видел, – и как раз от него выслушивал теперь то, что покуда не желал признавать, о чем хотел поразмыслить только дома, чего более всего боялся.
– Эсэсовцы, – презрительно бросил Фрезенбург. – Мы только за них сейчас и воюем. За СС, за гестапо, за лжецов и спекулянтов, за фанатиков, убийц и безумцев… чтобы они еще на год остались у власти. За них… а больше ни за что. Война давно проиграна.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
СД (SD = Sicherheitsdienst) – служба безопасности, разведывательное управление СС.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов