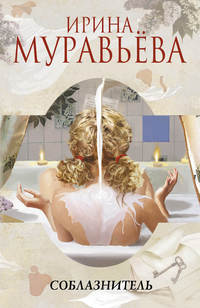
Соблазнитель
– А что этот пастор, – спросила вдруг Вера, – ведь он же мог просто жениться на ней?
И взгляды их пересеклись.
– Жениться? – он оторопел. – Как жениться? Он пастор, она прихожанка. Их знают.
– И что? – Переслени вздохнула: – Подумаешь!
– Что значит «подумаешь»? Маленький город, и все на виду…
– Ну подумаешь, город! – сказала она. – Вы стихи почитайте.
И он стал читать, даже в книжку не глядя:
Когда дрожит Небо —Это Твоя Душа ищет МоюВ Сугробах больших ОблаковИ находит.И Вера ему улыбнулась испуганно, как будто он к ней прикоснулся всем телом.
Глава III
Дома Андрей Андреич близко подошел к Елене, своей жене, и в самое ухо ее продышал:
– Я что-то совсем не справляюсь с собой. Ты знаешь, о чем я. Ты знаешь?
– Да, знаю.
Да, странной была их семья, необычной, и мать-генеральша, прожившая с мужем почти сорок лет, повидавшая всякого, понять не могла, почему ее дочь, красивая, очень неглупая, честная, как будто прилипла вся к Бородину: чуть только потянешь ее слегка в сторону, она упирается, не поддается, – да хоть ты всю кожу сними с нее, хоть все волосы вырви, она не уступит!
Еще до свадьбы Андрей Андреич, совсем молодой паренек, сказал своей широкоскулой невесте, что он никогда не потерпит обмана.
– Я буду с тобой откровенен во всем. И ты со мной тоже. А если полюбишь кого-то, скажи. Тогда у нас будет достойная жизнь.
– Но мы же… Андрюша… ведь мы же друг друга… – она растерялась и вся запылала.
– Сейчас – да. Друг друга. Но это – сейчас.
Прошло девять лет.
– Ты влюблен в ученицу?
– Ее зовут Вера, – сказал Бородин.
Паркет закачался под бедной Еленой. Она ухватилась руками за стул.
– И что теперь делать?
– А я сам не знаю, – он вдруг усмехнулся. – Тупик, вот и все.
– Ей сколько? Пятнадцать?
– Пятнадцать. – И он помрачнел. – Что с того?
– Тебя ведь посадят, – она ужаснулась. – Растление детей. Ты ведь сядешь пожизненно.
– А я буду ждать, – он опять усмехнулся, – сейчас ей пятнадцать, но будет шестнадцать.
– Да лучше б ты умер, – сказала она.
Какие, однако, прекрасные женщины ходили когда-то по нашей земле! И как их терзали мужья, предавали коварные слуги, казнили отцы! Узнает какой-нибудь римский патриций, что дочку недавно сманили в христианство, так он сгоряча и отрубит ей голову.
Елена могла быть примером достойной жены. Она рождена была, чтобы супругу украсить земную юдоль, чтобы вместе пройти испытания и насладиться взаимной любовью, и дружбой, и верностью. Случись ему быть декабристом, она бы, в собольем салопе и теплом платке, обнявши родных и друзей напоследок, в Сибири морозной, заросшей лесами, наполненной каторжным людом и сбродом, нашла бы в себе и смиренье, и силу, растила бы деток, играла Шопена, а в праздник кормила бы, как полагается, весь сброд этот сдобами и калачами. Да что декабристы! А вот вы возьмите другие примеры. Читали вы повесть «Авдотья Рязаночка»? Напрасно, что вы не читали, прочтите. Жила себе скромная баба Авдотья. И вдруг наступило татарское иго. Широкое поле с пшеницей и рожью, луга заливные со всем их цветеньем, леса с легкокрылыми бойкими пташками, короче: природа окрасилась кровью. И что же Авдотья? А вот что. Авдотья, рискуя собою, пошла прямо в крепость, татарскую и неприступную крепость, просить, чтобы хан отпустил ее мужа, и сына, и брата, и зятя из плена. Пошла, повязавшись суровым платочком, и шла целый год. Исколола все ноженьки.
Однако же я увлеклась, чтобы лучше представить читателю образ Елены. Она, уверяю вас, не уступает ни в чем этой смелой и доброй Авдотье.
Шло время, но жизнь словно остановилась. Как будто бы в самой ее глубине рассыпалось главное, и вся поверхность растрескалась, сморщилась и потускнела. Хотелось дышать, но дышать было нечем, хотелось уйти, но уйти было некуда, хотелось решиться на что-то, но это желание было опасней всего. Вера Переслени перестала посещать уроки английской литературы. Несколько раз Андрея Андреича и Веру видели разговаривающими на автобусной остановке, причем говорил Бородин, а Вера стояла, внимательно слушая. Однажды она наврала, что подвернула ногу, ее отпустили к врачу, а потом видели из окна, как она вышла из здания школы и быстро, нисколько не хромая, пошла по направлению к Новому Арбату, а через пятнадцать минут в том же направлении заспешил и Бородин, на ходу обматываясь шарфом.
И вдруг разразилась беда. Васенька попала под машину. Генеральша, крича и рыдая, дозвонилась Андрею Андреичу, и он на такси помчался в больницу, куда только что была без сознания доставлена Васенька. Как это могло случиться, что, переходя за руку с Еленой дорогу в Малом Неопалимовском переулке, она вдруг выпустила материнскую руку и, радостная, устремилась вперед? Потом оказалось – подружку увидела. Шофер не успел даже притормозить. Его самого без сознания вынесли.
Ни Бородин, ни Елена, жена его, ни ее мать, – скажи им кто-то заранее, что в понедельник утром, когда сыпал на Москву легкий и праздничный снег, похожий на тот, который сыпется на сцене Большого театра во время любимых балетов и опер, что в это утро им суждено будет увидеть свою девочку, свою эту крошечку, славную, кроткую, увидеть ее в синяках и в крови, и медсестра будет просить их отойти, не мешать, не трогать ребенка, не поправлять безжизненно откинутую набок голову, которая как-то ужасно дрожала, когда ее быстро везли на каталке, – скажи им такое заранее кто-то, смогли бы они после этого жить? Васеньку увозили по длинному больничному коридору, чтобы приступить к операции, и все это было так срочно, так жутко, что генеральша не успела даже позвонить своей подруге, полковнику медицинской службы, занимающей высокий пост в министерстве, и попросить эту подругу со странным для полковника именем «Одетта», чтобы та послала лучшего хирурга, – нельзя было ждать ни минуты.
Странное свойство имеет любое несчастье, и не знаю я, замечали ли вы, дорогие читатели, это свойство. А состоит оно в том, что если заранее сказать человеку, через что ему суждено пройти, то страх охватит этого человека с такой силой, что станет он просить у Бога смерти, лишь бы не испытать положенного ему судьбою. Но, Господи, слава Тебе! Поскольку когда наступает несчастье, оно принимает размеры души того человека, которому послано. Несет каждый только свой крест. Именно так и произошло с Андреем Бородиным, женой его и матерью жены. Несчастье обрушилось сразу на всех, расплющив троих и слепив что осталось в одно существо. Они повторяли друг друга: шептались, потом замолкали, потом пили воду. Но так продолжалось недолго, и снова они разделились на разных людей.
За шесть часов в голове Бородина не проскользнуло ни одной сколько-нибудь связной мысли. Он чувствовал, что виноват. Вина была не в том, что он был плохим отцом, а в том, что за три последних месяца он ни разу не подумал о себе как об отце. Он вообще не думал о себе без того, чтобы тут же не представить рядом Веру Переслени, и в этом он был виноват перед Васенькой.
Узнав, что врачи приступили к работе, вдова генерала внезапно заснула. Она, человек очень слабый и робкий, забилась, как зверь забивается в чащу, в спасительный сон. Лицо ее было и детским, и старым, помада, оставшаяся на губах, вдруг приобрела лиловатый оттенок.
Елена сидела между мужем и матерью и крепко держала их за руки. Она вцепилась левою своею рукой в руку Андрея Андреевича, а правою – в руку матери. Пальцы Бородина были ледяными, и от этого левая ладонь Елены тоже стала остывать, в то время как правая – разогрелась и вспотела в руке матери. Лена не замечала, что плачет, но слезы лились и лились по ее распухшему лицу, отчего оно стало еще шире, и сходство с Нефертити, давно замеченное многими, полностью исчезло.
Через три часа к ним вышел ярко-рыжий, маленький и веснушчатый человек, под бледно-зеленым халатом которого шарами вздувались огромные мускулы.
– Спасли вашу дочку, – сказал он устало. – «Спасли» в смысле – жизнь. А дальше что будет, сказать не могу. Закрытая черепно-мозговая травма – вот о чем речь. Переломы ног – это в ее возрасте ерунда, срастутся. А голова – другое дело.
– Что значит «другое»? – спросил Бородин. – Калекой останется?
– А я не знаю, – ответил ему мускулистый. – Не знаю. Пророчить не буду.
Что-то разорвалось внутри Бородина. Он вдруг ощутил всем своим существом, что если сейчас не вернуть его Васеньке ее эту детскую прежнюю жизнь, то он не посмеет приблизиться к Вере. До Веры ли будет! И в эту секунду Елена, жена, обмякшим и форму теряющим телом сползла вдруг к ногам его с тем безразличьем, с которым сползает подтаявший снег с карнизов домов.
– Обычная вещь – спазм сосудов, обычная, – сказал быстро врач. – Все пройдет, посадите, водички ей дайте, большая нагрузка. Вам скажут, что дальше. Пока подождите.
Елена открыла глаза и странную, дикую фразу сказала:
– Чтоб только жила. И можешь уйти. Ты свободен.
Он много раз вспоминал эти ее слова, и холодный пот прошибал его: неужели они одновременно подумали об одном и том же? И так же, как это бывает, когда в адской темноте тоннеля вдруг сталкиваются на полной скорости поезда и мертвыми падают со своих неудобных высоких стульев машинисты и в груде железа, обломков и криков уже не понять, что случилось, – вот так и они столкнулись во тьме наступившего горя с одною и той же бессильной попыткой: пожертвовать тем, что дороже всего. Как будто бы каждый из них спохватился и вспомнил: ведь есть что отдать! Возьми – за ребенка. А дочку не трогай. Оставь ее нам. Елена его отпускала, а сам он, – хоть вслух ничего не сказал, – содрогнулся, когда вспомнил школьницу: не подойду.
Они умоляли не Бога, а идола, к которому – о, как давно – обращались задолго до живописи, режиссуры, до музыки, до магазинов, до денег свирепые, мрачные, дикие люди. И если бы кто-то подслушал их мысли, открыл бы грудную их клетку, увидел, что там происходит: внутри и в крови, какая идет там нелепая сделка, то страх охватил бы того человека, а может быть, даже презрение к ним.
Целый месяц, пока Васенька не поднялась с больничной кровати, не начала потихоньку передвигаться и не прошло так испугавшее их и насторожившее врачей косоглазие и дрожание левого зрачка, ни Бородин, ни Елена не говорили между собой ни о чем, кроме того, что касалось девочки. Елена почти безотлучно находилась в больнице, поскольку Одетта, полковник медицинской службы и близкая подруга генеральши, устроила для Васеньки отдельную палату. Спала там, на кресле, и ела на кресле, и даже халат надевала больничный, когда становилось темно за окном. Нужны были деньги, и мать-генеральша сняла свою люстру, которая так украшала их дом, и люстру купила другая подруга, супруга дантиста, на даче которой как раз не хватало одной такой люстры.
Андрей Андреич Бородин не мог позволить себе долгого перерыва в преподавательской работе и начал опять приходить на уроки, и ставил отметки, и что-то рассказывал, но все в школе знали, что дочка учителя висит между жизнью и смертью. Все вдруг изменились, все стали скромнее, умнее, отзывчивей, не раздражались, и девушки-девятиклассницы даже не красили век, не скрипели чулками.
Иногда он, забывшись, останавливал неподвижно-голубой взгляд на школьнице Переслени, и тут же темнели глаза, наполнялись паническим страхом, как будто он видел не девочку Веру, а черта с рогами. Сразу после уроков Бородин ехал в больницу, сдавал в раздевалке пальто, надевал белый халат со следами чужой застиранной крови и, не дожидаясь лифта, прыгал через ступеньки старой каменной лестницы наверх, на четвертый этаж. Если Васенька спала, то жена его Елена обычно лежала в ногах своей дочки и тихо дремала. Бородин замирал в дверях, и эта картина, которая открывалась его глазам с самого порога, снова и снова впечатывалась прямо в мозг, и сегодняшнее изображение, когда Елена, скажем, прикрывала глаза ладонью правой руки, накладывалось на вчерашнее, когда ладонь ее правой руки поглаживала истончившиеся и почти прозрачные пальчики спящей Васеньки, соединенные между собой так, как их соединяют покойникам: одним хрупким веером маленьких косточек на веер других, столь же хрупких и нежных. Он стоял на пороге, и душа его начинала привычно кровоточить в то время, когда происходило это своеобразное наложение одной картины на другую, сегодняшего – на вчерашнее, вчерашнего – на позавчерашнее и так далее, до тех пор, до того самого первого дня, когда Васеньку перевели из реанимации в эту палату, и тут же Елена над ней распростерлась, и тут же застыла, и тут же срослась с ней.
Он бросал рюкзачок у стены и садился на стул рядом с кроватью. Жена его приоткрывала глаза. Прежде, когда она смотрела на него, взгляд ее сразу же становился взволнованным и начинал блестеть, как будто в него опускался огонь не видимой людям звезды. Сейчас взгляд Елены был тихим, тоскливым.
– Ну, что она? Как? – говорил Бородин.
И Елена начинала тусклым, крошащимся голосом рассказывать ему, как прошли эти сутки, сколько шагов удалось сделать Васеньке с поддержкой матери и сколько без поддержки, что огорчило врача и что его порадовало в Васенькиных последних снимках. Она говорила монотонно и невыразительно, словно выполняла свой долг перед тем человеком, который был отцом ее ребенка и, стало быть, имел право знать всю правду.
Она была женщиной сильной и честной, и он это знал.
Вернувшись вечером домой из больницы, он видел похожие перемены в лице и поведении генеральши. И она, так же как ее дочь, опускала глаза, стараясь не встречаться с ним взглядом, быстро и аккуратно подавала на стол, зная, что он не задаст ни одного вопроса, откуда вся эта еда, даже фрукты, а он словно бы не хотел даже знать, как ей удается поддерживать дом. Он просто садился и ел все подряд, потом говорил ей «спасибо», шел в спальню и сразу ложился.
Оглядываясь на закрытую дверь комнаты, генеральша торопливо набирала номер супруги дантиста и быстро, скосившись на дверь, говорила, что ей надоели те самые бусы, которые, помнишь, ты очень просила, а я не хотела, а вот разглядела, что мне эти бусы совсем ни к чему, у Лены – свои, и там жемчуг крупнее, а я уже старая, шея в морщинах, так, если ты хочешь, я их подвезу. Подруга, которая все понимала и знала, что денег взаймы или «так» ни Лена, ни мать ее просто не примут, кричала в ответ ей, что именно эти, ты знаешь, что именно эти вот бусы нужны позарез, и, конечно, возьму, ведь мне идти в гости, и этот твой жемчуг такое спасенье. Прежде, до того, как случилась беда с Васенькой, они жили совсем неплохо, потому что генеральша получала пенсию за своего покойного мужа, а Елена давала частные уроки английского языка и учеников у нее было хоть отбавляй. Зарплата, которую приносил домой равнодушный к быту Андрей Андреич, составляла самую скромную часть их семейного бюджета, но ведь от него ничего и не ждали, вернее, Елена ничем не хотела ему докучать. Теперь, когда их отношения стали другими, и все девять лет опустились на дно, подобно какому-то судну, с которого успели спастись пассажиры, однако, барахтаясь в бурной и грязной воде, никто из них не был уверен, что выживет, – теперь было стыдно жалеть просто вещи и переживать за ничтожные мелочи. Погруженный в себя Бородин не знал, что пустеет шкатулка, где теща хранила свои украшения, и даже того не заметил, что люстра куда-то исчезла. Теперь вместо люстры висела уныло какая-то желтая чешская лампа, вполне из советских нехитрых времен.
Но главное – он не знал той душевной работы, которая шла и шла внутри его жены Елены, отчего она постарела и стала опускать глаза свои всякий раз, когда он с привычною выпуклой зоркостью смотрел на нее.
Ни одна женщина не удержалась бы от того, чтобы не воскликнуть в порыве отчаяния и не задать Богу вопрос, который не имеет никакого смысла, но люди не понимают этого и никогда не поймут, сколько бы им ни объясняли. Вопрос этот даже и не задается, он словно бы сам разрывает все горло и, выйдя наружу из тела, горячий, кровавый и страшный, растет вместе с криком, слезами и стоном, поскольку он редко бывает беззвучным и редко бывает бесслезным и кротким.
«За что? – ужасалась Елена. – За что? Она же ни в чем еще не виновата!»
Прошло несколько дней, и, сидя неподвижно у кровати Васеньки или забываясь чутким сном в ногах ее, Елена начала чаще и чаще возвращаться к этому вопросу и сама искать ответ. Трудно ведь согласиться с тем, что нет прямых причин и следствий внутри человеческой судьбы и сложен узор ее, непостижим. И так не бывает, что ты вопрошаешь и ангел сейчас же тебе отвечает. Сам думай, слепой человек, сам ищи.
«За что? – повторяла она диким шепотом и гладила нежные плечики Васеньки, столь тихие и беззащитные плечики, что бедной Елене хотелось кричать и выть, как собака, и биться о стену. – За что? Объясни мне. За что Ты ее?»
И тьма стала вдруг раздвигаться, как занавес. Его это предупредили, его. Здесь – девочка, доченька, там – тоже девочка. Вся ее девятилетняя любовь к этому голубоглазому человеку, весь восторг, который она испытывала от каждого слова его, теперь обжигали стыдом, было страшно, когда он опять вырастал на пороге.
«Да, он извращенец, – шептала Елена, – он, может быть, даже преступник, насильник, а я и не знала! Когда он пришел и сказал, что его измучили гадкие эти желания…»
Рвота подступала к горлу. Елена закрывала лицо руками, и в темноте ее сомкнувшихся ладоней глуховатый голос Андрея Бородина начинал звучать так отчетливо, словно весь Андрей Бородин, сжавшись до размеров кузнечика, помещался внутри: «Она уже женщина, взрослая женщина, и пахнет как женщина… Я не могу… Скрывать от тебя ничего не хочу…»
«Нужно было тогда бежать от него! – думала Елена. – Нужно было гнать его в три шеи! А мне показалось, что он просто честен и что все другие, которые так же, как он, это чувствуют, просто боятся признаться, боятся сказать! А он вот такой необычный и искренний, и сам – как ребенок: признался во всем… Я думала, это пройдет, подожду…»
Теперь она знала, что ни минуты не сможет жить с ним вместе, в одной квартире, и спать на одной постели, и есть за одним столом. Но что делать с Васенькой, как сказать маме? То, что маму удар хватит на месте, Елена не сомневалась. Выросшая в простой и трудолюбивой семье и вышедшая замуж за честного лейтенанта, дослужившегося до генерала сухопутных войск, пускай грубоватого и не читавшего ни Гейне, ни Гете, ни Байрона с Фетом, ее кареглазая мама была простодушной, как девочка. Любила и дочку, и внучку без памяти. Советскую власть сперва очень любила, и как рассказали о всех злодеяньях и всех преступлениях против народа, и как переехал в Москву Солженицын, она даже плакала от огорченья, но после смирилась и вытерла слезы. Теперь она скажет Елене: «Я чуяла, чуяла! Чужой человек. Он – чужой человек. И я говорила тебе, что отец – он грудью бы встал, а тебя не пустил! Отец бы его раскусил за версту и сам бы нашел тебе честного парня, хорошего, нашего парня, а этот…»
Однако Елена боялась не матери, не слез материнских, не даже инсульта, хотя генеральша страдала давленьем, как все располневшие добрые женщины. Что с Васенькой будет? Андрею Андреичу Бородину можно было предъявить все что угодно, вплоть до постыдных извращенческих побуждений, но нельзя было отказать ему в нежном и заботливом отношении к Васеньке, которое сказывалось не в том, что он любил, скажем, кататься с ней вместе на санках с горы, а в том, что он Васеньке столько рассказывал, читал с нею книжки, смотрел с нею фильмы, и Васенька папе во всем доверяла, ждала, пока папа проснется, в субботу и сразу бежала к нему на кровать, садилась, в своей полосатой пижамке, на папину грудь, щекотала его, и оба смеялись: он – глухо, отрывисто, она – колокольчиком, светлым и чистым.
Елена склонялась над спящею дочкой и руки сжимала до боли. Как дальше жить с мужем, который так грешен? Ведь Бог и ее тоже предупреждает! И она повторяла и повторяла себе, что, как только Васенька выйдет из больницы, нужно собраться с духом и сказать Бородину, что они должны расстаться, потому что не только находиться с ним под одной крышей она не может, но даже и просто представить себе, что он где-то рядом, ей невмоготу. Он, разумеется, смолчит и сразу же начнет собирать вещи, чтобы уйти, и тут вдруг появится Васенька. Зрачки у Елены расширялись. Она видела, как девочка ее, худенькая, с неокрепшими после переломов ножками, спрашивает, куда это папа уходит. И что ей сказать?
Четырнадцатого декабря, в ночь со среды на четверг наступило полнолуние.
Много, много всего знают земные существа об этом страшном небесном явлении и боятся времени, когда оно происходит. Тревога съедает всякого, порою и не слишком чувствительного человека, а что говорить о чувствительных людях! Сколько приличных отцов семейств выбросилось из окон по всему миру, включая даже веселую Бразилию, сколько заботливых матерей вцепились белыми от теста руками в волосы дочерей своих и принялись выдирать эти волосы с такою силой, что слезы потекли из глаз девушек, не чувствующих за собою никакой вины и даже еще не беременных вовсе от каждого встречного и поперечного?
Однако никто, уверяю вас, не боится полнолуния больше, чем санитары «Скорой помощи», сумасшедших домов и медперсонал венерических клиник. Про «Скорую помощь» понятно: число внезапных инсультов, инфарктов и просто сердечно-сосудистых кризисов во время луны этой, мрачно горящей в седых небесах, возрастает так мощно, что бледные до желтизны доктора, третий день не спавшие и вторые сутки не евшие, даже и электрокардиограмму больному не делают, чтобы не терять даром времени. А просто запихивают несчастного в кузов машины и мчат его прямо в больницу: скорее сдать в руки другого, такого же бледного, желтого доктора. Что касается нервного диспансера, то в нем дежурят не три сестры на отделение, как это принято в обычные дни, а четыре или даже пять, причем выбираются самые выносливые, закалившиеся еще при Андропове, когда не принято было сюсюкать с пациентами и им улыбаться сквозь редкие зубы. И поверьте, что даже и впятером эти сильные женщины не могут справиться с теми, на которых особенно действует притяжение луны, ибо больные начинают плакать, вспоминать умерших и строить громоздкие планы на будущее. Нечего и говорить про клиники для излечения венерических заболеваний. Картина в них кажется мне пострашнее, поскольку и сами болезни ужасны. И много их, много их, этих болезней! А уж пациентов и вовсе не счесть! А все почему? Потому что в тревоге от полной луны, ее белого света, они повступали в случайные связи и ждут самых стыдных для жизни последствий.
Есть, говорят, и хорошие стороны полнолуния, но смешно их даже сравнивать с плохими, смешно и неловко. Уверяют, например, что в полнолуние везет виноделам. И в карты везет им, и даже с любовью. За что, почему им везет, непонятно. На редкость удачливыми оказываются также и те, которые выходят на сбор крабов и моллюсков. Крошечные эти существа по своей природной доверчивости охотно вскользают в сачки, банки, сети, стараясь поближе прижаться телами к венцам мирового творения, к людям, наивно надеясь, что те их спасут.
Но самое главное все же не в этом. Сбываются сны полнолунные, вот что. И тот, кто увидит свой сон в этот час, тот может считать, что ему предсказали судьбу и не ошиблись ни в чем.
Итак, в ночь с тринадцатого на четырнадцатое декабря измученная Елена заснула в ногах своей худенькой Васеньки, и тут посетил ее сон, а уж в небе такая сияла луна и глазами такими глядела на наш этот мир, что я бы, увидев такие глаза, не стала бы лезть больше в космос, желая его покорить для неведомых целей. А ну как он нас покорит, ненасытных? И что тогда делать?
Во сне Елена увидела, как они с мужем гуляют в чужом тропическом лесу, полном дикой растительности и таком звучном, как будто бы это не лес, а оркестр. Однако темнело, и осторожная Елена стала упрашивать Бородина вернуться, пугая его наступлением ночи, а он по своей привычке ничего не отвечал и только отмахивался. Лицо его было таким ярко-бледным, как будто он болен и скоро умрет среди этих ярко-мясистых растений.
– Андрюша! – сказала Елена. – Давай поскорее вернемся обратно. Кто знает, что там, в темноте этой чащи?
– Там змеи, – вдруг забормотал Бородин. – Там змеи одни, больше нет никого.
– Они ядовитые? Господи Боже! – вскричала Елена. – Андрюша, бежим!
– Да поздно бежать, – отвечал Бородин и вдруг закатал до колен свои брюки.
Елена с ужасом увидела, что вместо ног у ее мужа черные и сильно пахнущие костром деревяшки. Она обмякла и прислонилась спиной к дереву.
– Мересьева помнишь? – спросил Бородин.
– Какого Мересьева?
– Мне кажется, звали его Алексеем, – сказал он задумчиво.
– Летчика, что ли? – спросила Елена.

