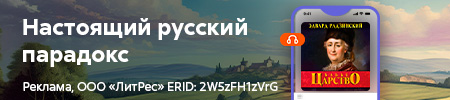0
0Испанка. История самой смертоносной пандемии
Попечителями фонда Хопкинса были квакеры, люди неторопливые, но решительные. Вопреки советам президента Гарварда Чарльза Элиота, президента Йеля Джеймса Баррила Энджелла и президента Корнеллского университета Эндрю Уайта[53], они решили построить новое учебное заведение по образцу немецких университетов, наполнив его учеными, создающими новые знания, а не только вещающими с кафедры общепринятые истины.
Попечители приняли это решение именно потому, что в Америке не было таких университетов; именно потому, что они это поняли, проведя, выражаясь современным языком, маркетинговое исследование. Один из членов попечительского совета позже говорил: «У молодых людей в нашей стране была огромная потребность в образовании, выходящем за рамки обычных курсов колледжей или университетов… Самым надежным свидетельством такой потребности был рост числа студентов-американцев, посещающих лекции в немецких университетах»[54]. Попечители решили, что этот товар удастся выгодно продать. Они были твердо намерены нанять самых лучших профессоров и создать условия для передового обучения.
За их планом стояла чисто американская дерзость: устроить революцию на пустом месте. Казалось бы, не было никакого смысла учреждать новое учебное заведение в Балтиморе, грязном промышленном и портовом городе. В отличие от Филадельфии, Бостона или Нью-Йорка, в Балтиморе не было ни традиций филантропии, ни общественной элиты, готовой возглавить новое движение, ни нескольких поколений интеллектуалов. Даже архитектура Балтимора была бесконечно унылой – длинные ряды одинаковых домов c неизменными тремя ступеньками. Дома теснились вдоль улиц – совершенно безлюдных улиц: казалось, что люди в Балтиморе либо сидят по домам, либо гуляют исключительно во внутренних дворах.
Словом, никакого фундамента для основания университета в Балтиморе не было. Были только деньги – и это еще одна чисто американская черта.
На должность президента попечители пригласили Дэниела Койта Гилмана, который покинул недавно организованный Калифорнийский университет после конфликта с законодателями штата. Ранее он участвовал в создании Шеффилдской школы наук (при Йельском университете, но независимую от него), а затем ее возглавил. Эта школа была создана отчасти из-за того, что руководство Йельского университета не пожелало сделать науку основой учебного плана.
Гилман тут же начал собирать в Университете Хопкинса преподавателей, имевших международный авторитет и международные связи, что сразу добавило веса новому учебному заведению. А такие европейцы, как Гексли, усмотрели в Университете Хопкинса удачное сочетание взрывной энергии и открытости американцев с передовой наукой: такое сочетание могло потрясти мир.
Для того, чтобы воздать честь Университету Хопкинса в самом начале его деятельности, чтобы поддержать веру его основателей в свои силы, Томас Гексли и прибыл в Америку.
Университет должен был отличаться строгими нравами и правилами. И он действительно станет самым строгим учебным заведением из всех, какие знала Америка.
Университет Джонса Хопкинса открылся в 1876 г. Медицинская школа при нем появилась позже, в 1893 г., но она развивалась так быстро и сверкала так ярко, что к началу Первой мировой войны американская медицинская наука догнала европейскую и была уже готова ее превзойти.
Грипп – это вирусное заболевание. Если он убивает, то, как правило, одним из двух способов: либо быстро и непосредственно за счет жесточайшей вирусной пневмонии, которую сравнивают с пожаром в легких, либо медленно и опосредованно, ослабляя иммунитет и открывая ворота для бактерий, которые поражают легкие, долго и мучительно убивая больного бактериальной пневмонией.
К началу Первой мировой войны те, кто учился в Университете Джонса Хопкинса, уже были мировыми лидерами по изучению пневмонии, болезни, которую называли в то время «предводителем вестников смерти». В некоторых случаях им удавалось предотвращать и даже лечить пневмонию.
Повествование о них надо начать с рассказа об одном человеке.
Глава вторая
В детстве и юности этого человека не было ничего, что предвещало бы его необыкновенное будущее.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что лучшие его биографии начинаются не с детства, а… с празднования восьмидесятилетнего юбилея в 1930 г.[55] Друзья, коллеги и почитатели собрались в тот день для чествования юбиляра не только в Балтиморе, где он жил, но и в Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, в Чикаго, Цинциннати и Лос-Анджелесе, в Париже, Лондоне, Женеве, Токио и Пекине. Участники торжеств связывались друг с другом по телеграфу и радио, а время торжеств было установлено так, чтобы они перекрывали друг друга, насколько это возможно при разнице во времени. В банкетных залах присутствовало множество ученых из самых разных областей науки, включая нескольких нобелевских лауреатов. С приветствием к юбиляру обратился президент Герберт Гувер, и его речь на торжестве транслировали все американские радиостанции.
Это чествование было посвящено Уильяму Генри Уэлчу – на тот момент, возможно, самому влиятельному ученому в мире. Он был президентом Национальной академии наук, президентом Американской ассоциации научного прогресса, президентом Американской медицинской ассоциации, а также возглавлял добрый десяток других научных организаций (или был в них весьма влиятельной фигурой). В те времена, когда не существовало никаких государственных фондов для поддержки научных исследований, он, будучи одновременно председателем исполнительного комитета Института Карнеги в Вашингтоне и многолетним, в течение 32 лет, президентом совета научных директоров Рокфеллеровского института медицинских исследований (ныне Рокфеллеровский университет), он распределял денежные поступления от двух крупнейших филантропических организаций США.
Но при этом сам Уэлч не был первопроходцем даже в своей собственной отрасли, в медицине – он не снискал лавров Луи Пастера, Роберта Коха, Пауля Эрлиха или Теобальда Смита. Он не породил ни одной блистательной научной идеи, не сделал ни одного грандиозного открытия, не задавался глубокими и значимыми научными вопросами, не оставил после себя ценных записей в лабораторных журналах и в личных дневниках. У него было слишком мало работ – беспристрастный судья сказал бы, что он не написал ни одной работы, достойной поста президента Национальной академии наук.
Тем не менее сотни ведущих ученых с мировыми именами исчислили и взвесили его заслуги (хладнокровно и объективно, как они исчисляли и взвешивали все) – и нашли их огромными. В тот день они собрались, чтобы воздать Уэлчу заслуженные почести – не за его собственные научные заслуги, а за все, что он сделал для науки.
В течение его жизни мир радикально изменился, на смену лошадиной тяге и телегам пришли радио, аэропланы и даже первые телевизоры. Была придумана «Кока-Кола», которая к 1900 г. уже триумфально шествовала по миру; к 1920-м гг. у Вулворта было уже более 1500 магазинов[56]; технократическое преображение Америки сопровождало Эпоху прогресса, кульминацией которой стала конференция по воспитанию детей, проведенная в Белом доме в 1930 г. В ходе этой конференции было заявлено, что специалисты по воспитанию превосходят своими достоинствами родителей, поскольку «воспитать своего ребенка так, чтобы он смог вписаться в сложную, запутанную и многогранную социально-экономическую систему созданного нами мира, не способен ни один родитель»[57].

Уильям Генри Уэлч – самый влиятельный и компетентный человек в истории американской медицины. Один из его коллег как-то заметил, что «он мог преобразить жизнь человека простым щелчком пальцев». Когда Уэлч впервые присутствовал на вскрытии умершего от гриппа, он сказал: «Должно быть, это какая-то новая инфекция или чума».
Естественно, Уэлч не имел никакого отношения к этим переменам, однако он сыграл непосредственную (и выдающуюся) роль в таком же преображении медицины – и в особенности американской медицины.
Его имя служило парадной вывеской, а его собственный опыт воплощал и отражал опыт множества людей его поколения. Но он не был просто символом и «типичным представителем». Подобно гравюрам Маурица Эшера, его жизнь и вытекала из жизни других, и одновременно определяла жизни тех, кто будет после него, и тех, кто придет потом, и тех, кто родится у них… и так далее, до наших дней.
Уэлч не совершил никакой революции в науке – революцией была вся его жизнь. Он был личностью – и вместе с тем театром; он был одновременно импресарио, драматургом, строителем. Он, подобно театральному актеру, играл собственную жизнь как единственный спектакль, который произвел неизгладимое впечатление на зрителей, а через них воздействовал и на других людей – уже за пределами театра. Строго говоря, Уэлч стоял во главе движения, создавшего великолепный и дерзкий научно-медицинский проект – возможно, величайший научно-медицинский проект в мировой истории. Наследие Уэлча не поддается объективному измерению, но оно было реальным. Это наследие – в его способности обращаться к человеческим душам.
Уэлч родился в 1850 г. в Норфолке, в маленьком захолустном городке на севере штата Коннектикут, где леса перемежаются с холмами. Дед Уэлча, брат деда, отец и четыре его брата были врачами. Отец даже побывал членом конгресса штата и в 1857 г. выступил с обращением к выпускникам Йельской медицинской школы. В нем он коснулся важности развития медицины, упомянув методы, о которых в Гарварде до 1868 г. даже не заговаривали, а также удивительную новую «клеточную теорию и ее влияние на представления о физиологии и патологии». Кроме того, Уэлч-старший сослался на труды Рудольфа Вирхова, которые в то время публиковались только в немецкоязычных журналах[58]. Он также заявил: «Все полученное до сих пор положительное знание… вытекает из точного наблюдения за фактами»[59].
Казалось, Уэлчу на роду было написано стать врачом, но жизнь распорядилась иначе. Много лет спустя он признавался своему протеже, великому хирургу Харви Кушингу, что в юности медицина внушала ему отвращение[60].
Вероятно, отчасти это отвращение было обусловлено условиями, в которых рос Уэлч. Мать его умерла, когда мальчику было полгода. Сестра воспитывалась в другой семье с трехлетнего возраста, а отец был эмоционально холоден и редко баловал сына общением. Всю жизнь Уэлч испытывал к своей сестре сильнейшую привязанность – большую, чем к кому бы то ни было на свете. Их переписка ясно говорит о том, какой близости всегда не хватало Уэлчу.
Детство его было отмечено тем, что определит всю его дальнейшую жизнь: одиночеством, замаскированным бурной деятельностью. Сначала он пытался приспособиться. Он рос отнюдь не в изоляции. По соседству жила семья его дяди, и он постоянно играл с двоюродными братьями, своими ровесниками. Но Уэлчу не хватало более тесной родственной близости, и он просил кузенов называть его «братом»[61]. Они отказывались. Он и потом будет пытаться сблизиться с окружавшими его людьми, чтобы быть причастным к их обществу… В 15 лет он с юношеским пылом присоединился к евангелической общине и во всеуслышание объявил себя верующим христианином.
Он поступил в Йельский университет, не ощущая никакого противоречия между своей религиозной верой и наукой. В колледже Уэлча учили чисто техническим, инженерным дисциплинам; в те годы, сразу после Гражданской войны, преподаватели намеренно держались в стороне от брожения умов, позиционируя себя как консерваторов и конгрегационалистов в противовес гарвардскому унитаризму. Но если интеллектуальные интересы Уэлча определились только после окончания колледжа, то личность его уже была окончательно сформирована. Особенно выпукло выступали три его качества. Их сочетание оказалось на редкость мощным.
С детства Уэлч отличался острым умом – на момент окончания школы он был третьим учеником в своем классе. Однако впечатление, которое он производил на окружающих, было обусловлено не его блистательным интеллектом, а обаянием его личности. Он обладал необычайной способностью с жаром отдаваться делу, но при этом смотреть на него как бы со стороны. Однокашник Уэлча вспоминал, что «он был единственным, кто сохранял хладнокровие» во время самых жарких споров, – и эта черта сохранялась у него до самой смерти.
В нем было нечто заставлявшее других искать его хорошего отношения. В те времена в студенческих коллективах Америки было принято издеваться над младшекурсниками, причем порой настолько жестоко, что новичкам советовали иметь при себе пистолет, чтобы защититься от нападений. Однако Уэлч избежал этой участи. «Череп и кости» – вероятно, самое засекреченное студенческое тайное общество в США, члены которого были накрепко связаны круговой порукой, – приняло Уэлча в свои ряды, и он всю жизнь был тесно с ним связан. Наверное, это отвечало его вечному стремлению принадлежать какому-то тесному сообществу. Однако, как бы то ни было, прежнее отчаянное стремление к принадлежности сменилось у него чувством самодостаточности. Студент, живший с ним в одной комнате, оставил Уэлчу, уезжая, такую записку: «Должен сказать, что я в неоплатном долгу перед тобой за твою доброту и за пример, который ты всегда мне подавал… Сейчас я невероятно остро чувствую истинность того, что всегда говорил другим, но не тебе, – я совершенно недостоин такого соседа, как ты. Я всегда жалел, что тебе приходилось делить со мной кров, хотя я был много ниже тебя по способностям, достоинствам, да и по всем благородным и хорошим качествам…»[62].
Иной биограф смог бы углядеть в этом послании гомосексуальный оттенок. Может, и так. Был еще по крайней мере один человек, позже посвятивший себя Уэлчу с пылом, который можно было бы при желании назвать страстью. Впрочем, надо отметить, всю свою жизнь Уэлч каким-то непостижимым способом вызывал у многих людей сходные чувства, пусть и не такие яркие. И делал он это без малейших усилий. Он легко очаровывал. Ему не нужно было отвечать на чужую симпатию – и уж тем более не нужно было самому к кому-то привязываться. Короче, Уэлч обладал тем, что сейчас называют модным словом «харизма».
Авторитет Уэлча на курсе дал ему право выступить с речью на церемонии вручения дипломов. В своей студенческой работе, озаглавленной «Упадок веры», Уэлч обрушился с критикой на механистическую науку, которая рассматривала мир как машину, «не направляемую справедливым Богом». Теперь же, в 1870 г., через год после выхода в свет книги Дарвина «О происхождении видов», Уэлч в своей речи попытался примирить науку и религию.
Задача оказалась не из легких. В любые времена наука становится потенциально революционной силой: любой новый ответ на кажущийся обыденным и простым вопрос «Как?» может вскрыть цепь причинно-следственных связей, способную разбить в прах весь прежний порядок вещей, а иногда и угрожать религиозной вере. Уэлч и сам, как и многие во второй половине XIX в., ощущал эту боль: люди взрослели и видели, как наука вытесняет устоявшийся естественный, божественный порядок. Его заменил порядок человеческий, суливший неизвестность и, как писал Мильтон в «Потерянном рае», «потрясший ужасом… царство Хаоса и древней Ночи»[63].
Отступив на шаг от того, что говорил ему отец 12 лет назад, Уэлч отверг веру унитарианцев и воззрения Ральфа Уолдо Эмерсона – философа, пастора и писателя, вернувшись к необходимости черпать истину в Священном Писании. Теперь он утверждал, что откровение не должно подчиняться рассудку, и признавал существование вещей, которые «человек не сможет открыть светом собственного разума»[64].
В итоге Уэлч посвятит жизнь открытию мира «светом собственного разума» и будет побуждать к этому других. Но тогда у него были иные взгляды…
В университете он изучал классическую филологию и надеялся, что будет преподавать греческий язык в Йеле. Однако университет не дал ему такой возможности, и Уэлч устроился на должность учителя в одной новой частной школе. Школа скоро закрылась, места в Йельском университете для него по-прежнему не было, и Уэлч, не зная, куда податься, уступил настояниям семьи: решил заняться медициной, вернулся в Норфолк и стал учеником собственного отца.
Это была давнишняя, проверенная временем практика. То, чем занимался отец, ни в коей мере не отражало новейшие медицинские концепции. Как и большинство американских врачей, он пренебрегал объективными исследованиями – измерением температуры и артериального давления, а при изготовлении микстур и прочих лекарств не прибегал к взвешиванию, часто полагаясь на чутье. Период ученичества стал для Уэлча самым безрадостным временем. В своих воспоминаниях он избегал упоминания о нем – будто его никогда и не было. Однако за время обучения у отца во взглядах Уэлча на медицину что-то изменилось.
В какой-то момент он решил: если уж ему суждено стать врачом, то он станет им самостоятельно, пойдет своим собственным путем. В те времена люди, готовившиеся стать врачами, для начала, как правило, проходили полугодичное ученичество у практикующих медиков, а затем поступали в медицинскую школу. Шесть месяцев ученичества прошли, и Уэлч поступил в школу – но не в медицинскую. Он отправился изучать химию.
Ни одна медицинская школа в Соединенных Штатах не требовала от абитуриентов ни научных знаний, ни диплома колледжа. Мало того – студентам не преподавали научные дисциплины, они не предусматривались никакими программами. В 1871 г. один из старших преподавателей Гарварда утверждал: «В такую научную эпоху, как наша, куда опаснее, если обычный студент-медик начнет, утратив энтузиазм благонамеренного поборника прикладных наук, отвлекаться от освоения практических, полезных и исключительно важных навыков, чем если он столкнется с нехваткой таких теоретических знаний… Мы не должны побуждать студентов тратить время на блуждания в дебрях химии и физиологии»[65].
Уэлч придерживался другого мнения. Химия представлялась ему окном в устройство организма. В это же время Карл Людвиг, впоследствии ставший учителем Уэлча, и несколько других ведущих немецких ученых, встретившись в Берлине, решили «утвердить физиологию на химико-физическом фундаменте и придать ей научный статус, не уступающий статусу физики»[66].
Весьма сомнительно, что Уэлч знал об этом решении, но чутье подсказало ему то же самое. В 1872 г. он поступил в Шеффилдскую школу наук при Йельском университете, чтобы изучать химию. По его словам, «это учебное заведение было превосходным… лучшим, нежели любая медицинская школа, где, насколько я знаю, химией сильно пренебрегали».
Пройдя основной курс за полгода, Уэлч поступил в нью-йоркский Колледж врачей и хирургов – тогда его еще не объединили с Колумбийским университетом. (Йельской школой медицины Уэлч пренебрег: 50 лет спустя, когда его попросили выступить с речью об историческом вкладе Йеля в медицину, Уэлч отказался, заявив, что никакого вклада просто не было.) Это была старая добрая американская медицинская школа – без вступительных экзаменов, без оценок текущей успеваемости. Как и во всех прочих школах, жалованье преподавателей зависело от платы, которую вносили обучающиеся, поэтому руководство пыталось набрать как можно больше студентов. Практически все знания студенты получали на лекциях, лабораторные работы в принципе не были предусмотрены. И это тоже было типично. Ни в одной американской медицинской школе студенты не пользовались микроскопом. Уэлча за образцовую учебу однажды премировали микроскопом: он восторженно крутил его в руках, но не знал, как с ним обращаться, и ни один профессор не изъявил желания научить его этому искусству. Он с завистью наблюдал, как работают с микроскопами другие, замечая: «Я могу лишь восхищаться, но не понимаю, как пользоваться этим, очевидно, очень сложным устройством»[67]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Личные беседы автора с доктором Дэвидом Аронсоном, 31 января 2002 г., и доктором Робертом Шоупом, 9 сентября 2002 г.
2
Niall Johnson and Juergen Mueller, "Updating the Accounts: Global Mortality of the 1918–1920 'Spanish' Influenza Pandemic," Bulletin of the History of Medicine (2002), 105–15.
3
Sherwin Nuland, How We Die (1993), 202.
4
Kenneth M. Ludmerer, Learning to Heal: The Development of American Medical Education (1985), 113.
5
William James, "Great Men, Great Thoughts, and Environment" (1880); цит. по: Sylvia Nasar, A Beautiful Mind (1998), 55.
6
Гёте И. В. Фауст / Пер. Н. Холодковский. – М.: Фолио, 2012.
7
The Washington Star, Sept. 12, 1876.
8
The New York Times, Sept. 12, 1876.
9
H. L. Mencken, "Thomas Henry Huxley 1825–1925," Baltimore Evening Sun (1925).
10
Подробнее о речи Гексли см. The New York Times, The Washington Post, The Baltimore Sun, Sept. 13, 1876.
11
Simon Flexner and James Thomas Flexner, William Henry Welch and the Heroic Age of American Medicine (1941), 237.
12
Roy Porter, The Greatest Benefit to Mankind (1997), 56.
13
Гиппократ. Клятва. Закон. О враче. Наставления. – М.: Современный литератор, 1998.
14
Подробнее о теории см. Porter, The Greatest Benefit to Mankind, 42–66, в разных местах источника.
15
Там же, с. 77.
16
Vivian Nutton, "Humoralism," in Companion Encyclopedia to the History of Medicine (1993).
17
Цит. по: Winslow, Conquest of Epidemic Disease, 126.
18
Там же, с. 142.
19
Существует также устаревшее написание Гунтер, ср. «гунтеров канал». – Прим. ред.
20
Там же, с. 59.
21
Цит. по обращению Мильтона Розенау к Американскому обществу бактериологов (1934), личный фонд Розенау, архив Университета Северной Каролины.
22
Прекрасный обзор можно прочесть в источнике Richard Shryock, The Development of Modern Medicine, 2nd ed. (1947), 30–31.
23
Там же, с. 4.
24
Charles Rosenberg, "The Therapeutic Revolution," in Explaining Epidemics and Other Studies in the History of Medicine (1992), 13–14.
25
Там же, с. 9–27, в разных местах источника.
26
Benjamin Coates practice book, цит. там же, с. 17.
27
Беседа со Стивеном Розенбергом.
28
Цит. по: Richard Shryock, American Medical Research (1947), 7.
29
Michel Foucault condemned: John Harley Warner, Against the Spirit of the System: The French Impulse in Nineteenth-Century American Medicine (1998), 4.
30
Там же, с. 183–184.
31
См. Richard Walter, S. Weir Mitchell, M.D., Neurologist: A Medical Biography (1970), 202–22.
32
Winslow, Conquest of Epidemic Disease, 296.
33
Цит. по: Paul Starr, The Social Transformation of American Medicine (1982), 55.
34
Charles Rosenberg, Explaining Epidemics and Other Studies in the History of Medicine (1992), 14.
35
Thomsonian Recorder (1832), 89; цит. по: Charles Rosenberg, The Cholera Years: The United States in 1832, 1849, and 1866 (1962), 70–71.
36
John Harley Warner, "The Fall and Rise of Professional Mystery," in The Laboratory Revolution in Medicine (1992), 117.
37
Цит. по: Rosenberg, Cholera Years, 70–71.
38
John King, "The Progress of Medical Reform," Western Medical Reformer (1846); quoted in Warner, "The Fall and Rise of Professional Mystery," 113.
39
Burton J. Bledstein, The Culture of Professionalism: The Middle Class and the Development of Higher Education in America (1976), 33.