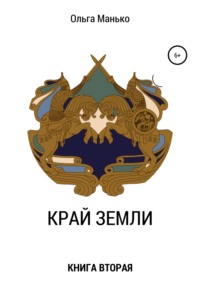
Край Земли. Книга вторая
– Брысь отсюда! – Разбойник зыркнул на босяка лиловым глазом.
Акишка откатился в тень и затаился, боясь попасться на глаза боярину. Соловей, открыв короб, бережно достал Птицу Гамаюн. Ликом светлым была Птица, волосы огнём сияют, глаза – бушующее море, тревога в них полощется. Оперение алое. От оперения того озарилась светом червонным округа, наполнилась благоуханием сотней сотен роз. Вдохнул дворовый люд аромат цветов прекрасных, но невидимых, на лицах улыбки расцвели, ушли негодование и досада. Любовь засветилась в глазах. Приобнял боярин свою боярыню, нет для него краше никого на свете. Посмотрел Бранибор на Марьюшку, понял: вот она, его суженая. У Марьюшки слёзы серебряные из глаз скатились, ударившись оземь, рассыпались на сверкающие росинки. В землю ушли и в месте том небесно-голубые незабудки разом выросли. Наклонилась к ним Марья и слышит матушкин голос: «Сердечко моё, доченька, невдолге увидимся». Почувствовал Макар, скоро и он встретит свою единственную и ненаглядную, приложил руку к груди, чтобы унять сердечный трепет, улыбнулся. Гипотенуза робко вздохнула: «Где-то мой серый козлик Бурре». Акишка пригорюнился: «Негодный я человек. Доверчивый народ облапошиваю, токмо бы лодырничать. Помру бобылем на пыльной дороге. Ничего после меня не останется на белом свете». Посмотрел босяк на барина с боярыней, а они будто два голубка рядышком. Фрол глядит на свою жёнушку взглядом нежным. Она же детишек обнимает, нарадоваться на них не может. Рядом с Марьюшкой сенная девка Дуська стоит. Маленькая, шустренькая, сероглазая, нос курносый, на русых волосах венок из пёстрых осенних листьев. Вдаль вглядывается, по всему видно, о женихе мечтает. Заколотилось сердечко у Акишки, понял, что ради девчонки сероглазой бросит он свою беспутную жизнь, за ум возьмется, чтобы сделать Дуську счастливой, не пожалеет ни сил, ни жизни. Обернулась девица на Акишку и вдруг увидела не босяка, а парня молодого, озорного, весёлого. И столько ласковости в его взгляде, что сердечко девичье разомлело.
Взмахнула Птица Гамаюн крылами, ушло сияние. Потемнел день. Кровавый закат встал. Грозовые тучи обрамляют пламенеющее небо. Громадные чёрные вороны меж туч летают, злобным карканьем погибель предвещают. Издалека буря надвигается, притаилась в ней злая вражья сила, превращающая в прах и пепел всё живое на своем пути. Суровыми стали лица, встревоженность во взорах появилась. Матери детей к себе прижали, оберегая. Мужья жён своих.
Подняла голову Птица, запела. Высоко звучит голос, печальную песнь поёт Гамаюн о тяжёлых временах, что грядут. Но в песне той нет страха, нет отчаяния. Отвага и решимость звучат в песне, сила любви и веры звучат в поднимающемся к небесам голосе. Слушает дворовый люд песнь молча. У некоторых смятение в душе она родила, что делать и не знают: и за себя боязно, и за отчий дом. У других ядовитой змеёй трусость выползла со дна гнилой душонки, шипит, пугает, прятаться велит. Неустрашимые сердца смелостью наполнились, вера в землю родную, в соотчичей храбрость укрепила. Умолкла последняя нота. День вернулся, как был. Стоит дворовый люд думу думает, разгадать старается увиденное, понять прочувствованное.
Взмахнула крылами Птица Гамаюн, лазурным оперение её стало, каждое перышко окаёмкой серебряной украшено, волосы огнём пылают. Тихо говорит она, но все слышат:
– Беда на нашей земле. Войной пошёл Чернобог против Батюшки Солнца. Хочет быть единым властителем и царствовать безраздельно. Хочет всю землю живую в омертвелую пустошь превратить, людей изничтожить, реки и моря высушить. Прежде сына своего, Князя Мрака и Тлена, послал он. Не одолел ни Князь Мрака, ни челядь его лукавая дух русский.
Нынче сам Чернобог войной идет. Силён и коварен ворог. Многие могут погибнуть. Слабые духом – предать. Но если не вступите в бой с Царём Мрака, тьмой покроется земля, сгинет всё живое.
Ещё раз взмахнула Птица Гамаюн крылами, и предстал перед народом Конь-Огонь. Сияет, сверкает, будто само солнце сошло на землю. Одна шерстинка у него золотая, другая серебряная. Грива в косы заплетённая. Ногами перебирает, головой трясет, не терпится вскачь пуститься. Ахнул народ от красоты такой.
– Батюшка Солнце дарит этого коня тому, кто сможет его обуздать. Будет он верным товарищем. Из беды спасёт, в ратном сражении не подведёт. Ещё есть три вещи, которые помогут вам: дерзость, отвага и благоразумие. Помните об этом, – сказала Птица Гамаюн. – Передала я весть, пора мне далее лететь.
Поднялась ввысь Птица, слилась с небесами и пропала, будто никогда её и не было. Удивляется дворовый люд: может, в самом деле, померещилось? Одначе вот он – Конь-Огонь стоит, ушами прядёт, гривой машет, копытами перебирает. Подошёл первый смельчак, запрыгнул на коня, но сбросил его конь. И второго сбросил, и третьего. Шумит народ:
– Да есть ли на свете такой наездник, кто смог бы обуздать коня? Напутала что-то Птица Гамаюн. Как же в бой на нём идти? Не для ратных дел Конь-огонь.
И справа обходят коня, и слева, но конь более никого к себе не подпускает, ржёт, на дыбы становится. Поглядел-поглядел на это дело Соловей-Разбойник, да и говорит:
– Не про вашу честь сей подарок. Будет время, найдется хозяин ему.
Тут и боярин Бубякин вспомнил об Акишке:
– Куда острожник подевался? Подать его сюда немедля!
Потом подобрел немного и добавил:
– На кол сажать так и быть, не буду. Но сотню плетей получит! Да так чтобы на всю жизнь запомнил лохмотник, как барина дурачить!
Стражники бросились исполнять боярское повеление. Сенная девка Дуська со слезами кинулась в ноги:
– Боярин! Не губи Акишку.
– Да тебе какая печаль? – удивляется барыня. – Почто убиваешься?
Встала Дуська, слёзы вытерла, посмотрела в глаза боярыне и отвечает:
– Люблю я его! Всем сердцем люблю!
– Да когда же успела? – диву далась боярыня.
– Как Птица Гамаюн крылами взмахнула, чародейный розовый аромат напустила, да червонным светом озарила округу, так и полюбила. Парень он незлой, беспутный токмо, а то беда поправимая. Милёнек – и не умыт белёнек. Об одном прошу, барин, смилуйтесь, пощадите! Я за это всё сделаю, что повелите.
– Ну, коли просишь, – отвечал боярин, – то так и быть. Вместо Акишки тебе будет сотня плетей. Его же пощажу.
Побледнела Дуська, голову уронила и отвечает:
– Спасибо, барин. Не забудь токмо отпустить Акима, как сговаривались.
Ропот поднялся среди дворового люда:
– Виданное ли дело, девчонку плетьми!
– Помрет девчонка!
– Негоже, барин, негоже безвинную душу губить!
Нахмурился боярин Бубякин:
– Всякая сорока от своего языка погибает. Не я её спрашивал, сама вызвалась.
– Да ты что ополоумел, боярин? – расталкивая всех, выбежал вперёд Акишка. – Вот он я! Меня вяжите-хватайте! Дуську отпустите! У девки, известное дело, волос долог, да ум короткий. Сама не понимает, что говорит!
Затем повернулся к девчонке:
– Дал я, Дуся, слово себе, что ни сил, ни живота своего за-ради тебя не пожалею. Сделаю тебя счастливой. Одначе не суждено тому слову сбыться. И позволить, чтобы ты в отместку меня наказание несла, не могу. Просьба у меня к тебе есть, краса-девица. Ежели не сдюжу от тех плетей, да помру, то выходи замуж за человека доброго. Ежели сын родится, то дай слово, назвать его моим именем. Будет это отрадой мне в мой смертный час. Буду знать, что не позабудешь ты меня, любовь мою к себе не позабудешь.
Глянул на боярина и говорит:
– Вели, барин, вести меня куда требуется, готов я.
Кивнул головой стражникам боярин Бубякин, схватили они Акишку и поволокли.
– А ну-ка, стойте! – приказала боярыня. – Нет на то моего согласия. Не позволю, барин, я тебе на посмешище и поругание себя выставлять. Не время сейчас счёты вздорные сводить. Беда на нас движется. Забудь об обиде.
Насупился барин:
– Так ты же сама, душа моя, предлагала Акишку на кол посадить, а я токмо плетьми велел выпороть.
Улыбнулась барыня:
– Дык, голубь мой сизокрылый, я же для острастки. Неужто не помнишь, как любовь меж нами зарождалась? Неужто забыл трепет сердечка и сладкие надежды?
– Помню, всё помню, голубушка моя, – отвечал боярин.
– Знаю, нрав у тебя, любезный муж мой, крутой, но сердце доброе и отходчивое. Неужто из-за обиды своей ты готов два любящих сердца разбить-разлучить? – заворковала боярыня.
Не отвечает боярин, думает. Зазвучал металл в голосе боярыни:
– Ежели не отменишь своего приказания, то я за себя, муж мой разлюбезный, не ручаюсь! Либо в обморок тотчас же упаду, либо к батюшке с матушкой уеду!
– Что ты! Что ты! – взволновался боярин. – Я тоже для острастки, лебедушка моя. Обида у меня на Акишку в том, что из-за него с тобой я не виделся долгое время, пока в Земле Грёз пребывал. Опосля боялся вновь там оказаться, тебя лишиться.
– Эх, барин, – вскричал Акишка, – кабы знал я тогда, что такое любовь, кабы знал, что не мил и свет, когда милого нет. Виноват я перед тобой и боярыней! Не знаю, как и прощение пред вами выпросить. Но если сможете, простите великодушно.
– Да чего уж там. И моя вина есть, что поддался хитрости твоей, – отвечал боярин Бубякин. – Вот ворога победим и свадьбу вам с Дуськой справим. Отпустите Акишку, – приказал он стражникам.
Глава V
– Боярин, боярин! – горланил стражник с каланчи.
– Чего тебе? – крикнул в ответ Фрол.
– Мельник наш бежит.
– Куда?
– Сюда! Все семейство с ним. Мельничиха что-то кричит, но не разобрать! – вглядываясь, отвечал стражник.
– Что ещё видно?
– Ураган движется, а над речкой Березайкой мгла, боле ничего не распознать!
– Дык чего ты молчал доселе? – гаркнул боярин Бубякин.
– Дык я кричал, а вы не слышали! – отвечал стражник.
Бубякин кивнул Фролу. Стражник открыл ворота. За ними, злобно хохоча, властвовал ураган. В свинцовом небе сталкивались мятущиеся тучи. С каждым мгновением они опускались всё ниже и ниже, казалось ещё чуть-чуть и тяжелая чернь придавит собой землю. Ветер выгибал деревья. В воздухе носились обломанные ветви. По дороге спешил мельник с женой, прижимая к себе детишек. Беснующиеся вихри силились вырвать их из родительских рук.
Фрол выглянул из ворот:
– Ишь, экая кутерьма заварилась! У нас тишь да гладь, а за забором ураганище!
– Лапоть тебя задави! Снесёт же бедолаг! Не добегут! – обеспокоился Соловей-Разбойник, выглядывая вслед за стражником.
Яростный порыв ветра сбил с ног толстую мельничиху и поволок её по дороге, словно перекати-поле.
– Ой, лишенько! – заверещала она, – Спасите, помогите! Укокошит, размажет ветрюганище меня, аки лепешку!
– Подсобить придется, а то и в самом деле пропадут, – крякнул Соловей-Разбойник.
– Да куда ты? – попытался остановить его Фрол, – Сам пропадешь!
– Не всяка потягота к лихоманке, – сверкнув желтым глазом, ответил Разбойник и что есть мочи побежал навстречу мельнику.
Ветер рвал рубаху, бросал пыль в глаза. До того бесцельно носящиеся в воздухе ветви накинулись на Соловья, огрубелыми сучьями царапая лицо и выдирая волосы. Разбойник, подхватив мельника и мельничиху, поволок их под спасительную защиту боярского двора. Фрол держал ворота настежь открытыми. Когда Разбойник вбежал, наглухо захлопнул их.
– Ой, что делается, что делается! – затараторила мельничиха, отряхиваясь от дорожной пыли. – Мельница наша, кормилица, развалилась. По камушку, по камушку разлетелась! Река высохла. Была и нету! Будто никогда нашей Березайки и не было. Кто тут боярин Бубякин?
– Я боярин, – отвечал Бубякин, выступая вперёд.
Мельничиха с ног до головы оглядела барина:
– Ага, тогда наше почтение вам, барин! Мы к вам со всем уважением, а что делается? Сирые мы теперича, сирые,– ударилась баба в слезы. – Голые и босые. Ничего не осталось, По миру пойдем, да как идти, когда пустошь кругом, омертвелая пустошь.
– Да не тарахти, растолкуй, что случилось?
– Что же вы за боярин, когда не знаете, не ведаете, что у вас твориться? – накинулась она на Бубякина. – Вся округа теперича без муки и хлеба осталась. Мельницы нет уже нашей! По камушку, по щепочке разлетелась-рассыпалась. Жернова, колеса, мешки с мукой, словно листочки осенние ураган подхватил и унёс неведомо куда. Речка Березайка высохла. Лишь земля суха теперича на том месте. И всё в одночасье! Глазом не успели моргнуть. Токмо детишек подхватили и к вам бежать! Ой горе, ой лишенько! – запричитала она.
– Помолчи, жена, – вступил мельник разговор. – Тут ещё какое дело. По дороге повстречали мы женщину. По всему видать, благородная. Сказала, что уж двадцать лет скитается, дочь разыскивает. С собой привести её мы не могли. Свою детвору бы дотащить. А женщина обессилила совсем, идти уж не могла. Боюсь, кабы не померла ненароком, а то и свалится на неё в такой ураган дерево, да покалечит. Может, отправили бы вы, барин, кого-нибудь за той женщиной? Тут недалече, верст пять всего.
– Да кто же пойдет по доброй воле? То на верную погибель посылать.
– Оно верно, – вздохнул мельник.
Марьюшка внимательно слушала разговор. Затем спросила мельника:
– В какой стороне женщину вы оставили? Как распознать то место?
– По дороге до раздорожья, – показал рукой мельник, – Слева верстовой камень. Приметный он, будто бычья голова, так его в народе и величают. За ним старая берёза стоит. За берёзой небольшая лощина. Вот в ней мы и укрыли ту женщину.
– Да ты что, барышня, – всплеснула руками мельничиха, – сгинешь, не ходи туда!
Марьюшка холодно глянула на мельничиху и ни слова не говоря, взяла под уздцы коня. Дворовый люд боялся вздохнуть, лишь только кто-то испуганно прошептал:
– Убьется барышня, как есть убьется! Скинет Конь-Огонь барышню!
Погладила Марьюшка коня по холке. Тряхнул он гривой. Вскочила девица верхом. Заржал конь, вспыхнула грива пламенем, копыта огнем засияли. Пришпорила Марья коня, стрелой перелетел он через забор тёсаного камня, только его и видели. Ахнул народ:
– Непростая девица!
– Она и есть хозяйка Коню-Огню!
– Погоди! – крикнул Макар, но Марья уже его не слышала.
– Дай, боярин, скакуна, – просит Макар, – не должно девице в такое время одной быть. Отец я ей, не дашь коня, пешком пойду!
– Да бери, бери, – замахал руками боярин Бубякин, – любого, самого резвого. Хоть у меня таких нет, чтобы с Конем-Огнем сравниться.
Бранибор уже выводит двух лучших жеребцов из конюшни:
– Садись, отец. Вместе поедем.
Фрол ворота открывает, скакуны от нетерпения ногами перебирают. Тут и Звон-Парамон голос подал:
– А я? Без меня как же?
– Да где же я тебе коня возьму? – вытаращил глаза боярин.
– Дык вон, сколько лошадей у тебя в конюшне!
– Дык ты со своим ростом даже до гривы не достаешь. Как же скакать будешь?
Посмотрел Парамон, а Макар и Бранибор уже выезжают из боярского двора. Прыгнул он верхом на Гипотенузу:
– Эх, залётная! Покажем удаль молодецкую?
– А то! – лукаво подмигнула коза и, высоко задирая ноги, поскакала следом.
Судача о происшедшем, дворовый люд стал расходиться. Боярин с боярыней ушли в палаты.
– Ерёмка, – заверещал Стёпка, – А мы с тобой? Гляделками будем моргать? Подтягивай свои лапти-скороходы и побежали за всеми!
Гонец задумчиво почесал в затылке:
– Взаправду сказать, намаялся я. Мне бы передохнуть чуток. Видал, какая ватага поскакала? Даже Парамон с Гипотенузой. Без нас справятся.
Стёпка обиделся:
– Даже Гипотенуза! А я, стало быть, не у дел получаюсь.
Соловей-Разбойник приподняв пса за загривок и, глядя ему в глаза, внушительно произнес:
– Не тявкай понапрасну, Стёпа, прибереги удаль.
Затем кивнул Ерёме:
– Давай, отойдем в сторонку, парой слов перекинуться надоть.
Стёпка хотел что-то сказать, открыл было рот, но взглянув на Разбойника, промолчал. Разбойник осмотрелся, по двору всё ещё бродил народ.
– Чужие уши нам ни к чему. Дело секретное. Давай на каланчу полезем, там и покажу заодно.
– А я как на каланчу залезу? – принялся вновь обиженно бурчать Стёпка. – Вы там секретничать будете, а я, стало быть, ненадобный.
– Ох, и докучливый ты, Стёпка, – крякнул Разбойник и, подхватив пса на руки, начал взбираться по крутой лестнице.
Степкина физиономия расплылась в довольной улыбке. Ерёма карабкался следом.
Поднявшись на самый верх Соловей-Разбойник, показал вдаль:
– Посмотри-ка, Ерёма, на деяния Чернобога. Я чуток приметил, когда за мельником с мельничихой выбегал за ворота. Думаю, нам надо совет держать, что дальше делать.
Медленно угасал день. Ураганный ветер стих. В сумеречном свете дорога, ведущая от боярского дома, была плохо различима. Местами её закрывали нависающие кроны деревьев. Издалека свет, идущий от Коня-Огня, казался дрожащим пламенем свечи, марьюшкина фигурка тенью. Неясные очертания Макара и Бранибора чуть виднелись. Звона-Парамона угадать можно было только по беканью Гипотенузы, которое он по привычке повторял эхом, и оно словно горошинки разлеталось во все стороны. На месте речки Березайки зияла пропасть, за края которой корнями цеплялись сломанные деревья. Хмарь, затянувшая небо, скрыла мерцание первых звёзд. Омертвелая пустошь чёрным саваном окружала лес со стороны ушедшего за горизонт солнца.
– Боится Чернобог Батюшки Солнца, – прошептал Соловей.
– Знамо дело! – хмыкнул Стёпка. – На свинью хоть хомут надень, всё одно конём не станет. Вот Чернобога завидки и берут.
Разбойник зыркнул на пса жёлтым глазом. Стёпка тут же прикусил язык.
– Приметили? Ураган-то прошёл мимо боярского дома, даже травинка здесь не шелохнулась? – спросил Соловей.
– К чему клонишь? – Ерёма с интересом посмотрел на Разбойника.
– А ещё у меня вопросец имеется, – хитро улыбнулся тот.– Отчего сие? И отчего, как только Марья за ворота, то и ветер утих, будто никогда его и не было?
– Да кто его знает? – пожал плечами Ерёма.
– Причинность сего явления… – многозначительно начал Стёпка, да умолк, не зная, что сказать далее.
– Смекайте быстрее, тугодумы!
– Не знаю, – зевая во весь рот, ответил Ерёмка. – Мне бы поспать чуток, намаялся за день.
–Не, ну ты, Соловей, чисто репейник! Так и знай, у этой загадки нет отгадки, – проворчал Стёпка.
– Эх, вы! Думалка у вас нонче точно заржавела. Так и быть признаюсь, чего я тут смекнул. Чернобог не просто боится Батюшки Солнца, а шибко боится. Двор бубякинский не тронул, потому как жар-перо туточки.
– Во, какая сила в пере-то! – восхитился Стёпка.
– Надо полагать, что как токмо Конь-Огонь за ворота выскочил, то Чернобог и присмирел, – в задумчивости произнес Ерёма.
–Верно мыслите, хвалю! Теперича идите опочивать. Я же Марьюшку подожду.
Глава VI
Безмолвие, наступившее в лесу, время от времени нарушал треск падающих на землю сухих веток. В блуждающем зыбком тумане деревья казались призрачными. В полумраке мерещились неясные фигуры беспрерывно изменяющиеся. То они представали грифонами, беззвучно хлопающими крыльями. То превращались в меченосцев, готовыми разрубить каждого, встреченного на их пути. То оборачивались ползущими чудищами о трёх головах каждое, после поднимались во весь рост, становясь людьми. Были те люди слепцами, вместо глаз тёмные дыры. В полном молчании брели среди деревьев, натыкаясь на них и вновь превращаясь в туман.
Зябко кутается в шаль, вышитую незабудками, Василиса, без страха смотрит на клубящиеся фигуры.
– Сейчас отдохну чуток и пойду дальше. Не обманывает материнское сердце, чувствую, рядом моя доченька,– шепчет она. – Мельник говорил, что боярский дом недалеко. Может, кто видел мою Марьюшку, может статься, кто-то знает, где искать её.
Внезапно донесся голос:
– Матушка, помоги мне. Уводят меня через тёмные леса, чёрные воды, через бескрайние поля, за высокие горы, за тридевять земель, за тридевять морей. Ох, матушка, никогда более не встретимся – не увидимся.
Поднялась на ноги Василиса, смотрит направо, никого нет. Смотрит налево, опять никого. Только голос звучит всё дальше и тише:
– Поспеши, матушка, лихие люди сковали-связали меня. Не вырваться, не убежать. Злую долю мне уготовили.
Встревожилась Василиса, крикнула:
– Марья, доченька, ты ли это?
– Я, матушка, я!
Побежала Василиса на голос, видит, по краю лощины девушку ведут за руки верёвками толстыми связанную. Косы распущены, сарафан рванный, ноги босые. Вокруг неё стража грозная. Шапки на них на высокие с лисьими хвостами, кафтаны будто из воронова крыла, сапоги железные, там где пройдут след остается, да такой, что трава истлевает, камень крошится. Однако идут бесшумно. Кинулась Василиса вслед, бежит, торопится, шаль с плеч уронила, но догнать не может. Вроде уж и близко, ан нет, уходят они. Уходят так быстро, словно по воздуху плывут, а не по земле идут. Лес всё темнее и гуще.
– Стойте! – кричит Василиса. – Отпустите доченьку мою! Отпустите Марьюшку!
Не слышит стража грозная, ведет девушку неведомо куда. Уже в самую чащу зашли. Деревья в пять обхватов стоят, кроны переплелись, скрывая небо собой, трава по колено, кусты колючими ветками одежду рвут. Собралась с силами Василиса, побежала, что было мочи, догнала конвоиров, вцепилась в одного из них. Не оборачиваясь, оттолкнул он её. Падая, Василиса сдернула лисью шапку со стражника. Повернулся караульщик к ней. Ахнула женщина. Под шапкой воронью голову увидела. Глаза рубиновым светом горят. И кафтан тот – не кафтан, а воронье оперенье. Каркнул стражник во все горло, взмахнул руками, превратились они в крылья, стал он чёрным вороном. Остальные обступили Василису, клювы разевают, грают вовсю мочь. Не испугалась она, а разгневалась:
– Кыш, отсюда! Кыш, курицы ощипанные! Отдайте мне дочь мою! Двадцать лет ищу её не для того, чтобы Марьюшку мою отняли вдругорядь. Нет такой силы, чтобы остановила меня!
Расступились вороны. Видит Василиса, девушка стоит, голову опустила, лица и не разобрать.
– Марьюшка, доченька! – шепчет, слёзы глаза её застят. – Не чаяла уж тебя найти. Не бойся, моя девочка, я рядом с тобой.
Подбежала, глянула и обомлела. Перед ней не девица, а ведьма стоит. Седые космы в разные стороны торчат, нос крючком с подбородком встречается, рот щербатый. На одном глазу бельмо, другого и вовсе нет. Смеётся старуха в покат:
– Не чаяла, говоришь? А я тебе в дочки сгожусь, Василиса? Ты княжна, и я княжной сделаюсь.
– Ах, ты нежить! – вскипела Василиса, – над горем моим потешиться захотелось? Слезы мои тебя веселят? Одно скажу тебе, ведьма, не была ты матерью рождена, не быть тебе самой матерью, не изведала ты материнской любви и силы её не знаешь. Не совладать тебе со мной.
– Не нужна ты мне, – ухмыляется ведьма. – Дочь твоя требуется. Чернобог велел тебя к нему привести, а уж Марья следом сама придет.
– Зачем, ведьмачка, дочь моя вам?
– Знаю одно, предала она Князя Мрака и Тлена. Но пока сердце её скованно, может пригодиться Чернобогу. Отец её, Князь Мрака, поместил сердце Марьи во вместилище, отгородив от всех человеческих чувств. Посему будет твоя дочь безропотно служить Чернобогу.
– Врешь, старая хрычовка, Марьюшка не дочь Князю Мрака. Украл он её. Обездолил. Дочь она князя земли русской Радослава. Не бывать тому, чтобы Чернобог её у вновь забрал!
– Ты хоть и княжна, но дурища, – осклабилась ведьма. – Хозяин мой вскорости всей землей владеть будет. Царём станет и над миром и живых, и над миром мёртвых. Всё его будет. Подобру соглашайся, княжна. Иначе вызовешь ярость Чернобога, а в ярости он лютый. Разорвет тебя на мелкие кусочки, испепелит, а пыль по ветру развеет.
– Вот что я тебе скажу, ведьма, – отвечает Василиса. – Раз стращаете, значит, нужна я живой. Но запомните, нет такой силы, чтобы заставила меня мою Марьюшку отдать по доброй воле. Так и передай своему хозяину. Мне же недосуг с тобой разговоры вести.
Развернулась и пошла прочь.
– Хватайте её, – взвизгнула ведьма. – Тащите Василиску в чертоги Чернобога! Велел он, ежели не сговоримся, то заточить княжну в мешок каменный.
Взмахнули вороны крылами, загорелись глаза у них светом рубиновым, подхватили Василису, подняли в воздух и понесли к Чернобогу. Захохотала хрипло ведьма:
– Говоришь, нет такой силы? Где уж тебе супротив властелина тьмы устоять?
Хлопнула в ладоши ведьма, из зарослей ступа с помелом вылетели, села она в ступу, взмыла вверх и следом за воронами устремилась.
Глава VII
Скачет Марьюшка на Коне-Огне, дороги перед собой не видит, только о матушке и думает, мечтает свидеться с ней. Вот уже и распутье. Четыре дороги ведут в разные стороны света. Спешилась Марья, коня крепко-накрепко привязала, огляделась. По фиалковому небу золотыми искорками ночь звезды рассыпала. Спрятавшаяся за тучкой луна игриво выставила бочок. Тишина стоит, ни веточка не шелохнется, ни травинка. Подле дороги камень лежит на бычью голову похожий. За верстовым камнем берёза старая. Кора трещинами изрыта, по стволу мох ползет. Но величественно возвышается берёза, золотым кокошником крона венчает её. Засмотрелась Марья на красоту такую, да вдруг услышала тонкий перезвон, шедший от листочков. Вроде что-то березка сказать хочет. Слушает Марьюшка, а понять не может.

