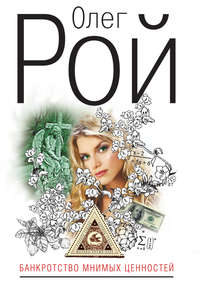
Банкротство мнимых ценностей
Женька торопливо оделся и направился было к выходу, но внезапно услышал чьи-то шаги под окном и стук во входную дверь. «За мной пришли! – почему-то подумал он. – Из милиции! Меня арестуют за то, что я виноват в смерти Вани!»
Времени на раздумья не было. В сени нельзя, а сюда вот-вот выйдут хозяйка с мамой. Оставалось окно в задней комнате. Он тенью метнулся туда, толкнул тяжелую дверь, молясь про себя, чтобы она была открыта. Дверь поддалась. В комнате оказалось темно, пахло затхлостью и пылью, единственное окно, ведущее на задний двор, завешено грубыми занавесками. Он схватился за раму, судорожно ее дергая и пытаясь открыть. Окном, видимо, давно не пользовались, краска присохла и не хотела поддаваться. Наконец раздался треск, створка приоткрылась, и в комнату ворвался свежий воздух. Женя вскочил на подоконник, спрыгнул в огород и бросился на улицу. Он бежал к реке, а мимо шли люди, которые, как ему казалось, все пристально смотрели на него, потому что знали, что это он убил своего друга. Это было совсем уж невыносимо!
Наконец Лохнесс очутился там, куда стремился. Вдали показался дебаркадер, недавно выкрашенный бирюзовой краской, – место, которое в деревне именовали пристанью. Сколько раз они бывали тут втроем!..
«Только бы никого не встретить из знакомых», – подумал он.
У кассы толкался народ, сновали туда-сюда старики с огромными, чем-то резко пахнувшими рюкзаками, бабки с набитыми сумками, молодые парни, семьи с детьми. Очевидно, скоро должна была подойти «Ракета».
Он остановился в стороне, шумно переводя дыхание.
«И что тут стою, все равно билет не на что купить», – пронеслось в голове. Куда и зачем ехать, он даже не думал. Главное – подальше от Сташкова. А для этого нужно попасть внутрь «Ракеты». Женька выпотрошил карманы, но нашлись только одна копейка и смятый фантик.
Минут через десять и впрямь показалась «Ракета», пришвартовалась у причала. Народ стал кучковаться поближе к трапу, рябой мужичок в кургузой куртке проверял билеты. Лохнесс, у которого уже созрел план, вертелся неподалеку. И после того, когда последний пассажир вошел на борт, а мужичок с рыжим матросом убрали трап и направились к швартовам, Женя напрягся, как сжатая пружина, и прыгнул… Но до палубы не долетел, лишь коснулся борта и соскользнул вниз, в неожиданно холодную воду.
У причала оказалось очень глубоко, и от испуга мальчик тут же пошел бы ко дну, если бы за ним не прыгнул все тот же рябой мужичок. Матерясь на чем свет стоит, он пребольно ухватил Женькины отросшие за лето вихры и вытащил на берег.
Потом была суматоха. Когда поняли, что угрозы его жизни нет, Женьке влетело со всех сторон, не только ругали, но и подзатыльников отвесили. Прибежали мама и Анна Николавна, кричали, плакали – но все это было как в тумане. В памяти остались только слова, которые произнес с ухмылкой рыжий матрос: «Кому на роду писано быть повешенным, тот не утонет».
На завтра чемоданы были уже собраны, уезжали на самой первой «Ракете», в шесть тридцать.
Женя и сам не знал, хочет ли он увидеть Таню, или духу ему не хватит посмотреть ей в глаза. Но когда оставалось полчаса до отъезда и мама в спешке запаковывала деревенские гостинцы, на которые вдруг расщедрилась хозяйка, какие-то сушеные грибы и банки с вареньем, Женя, выйдя на улицу, увидел у калитки Таню. Девочка подошла к нему и спокойно проговорила:
– На похороны, значит, не придешь.
– Ну вот, не получится, значит, – прошептал он, ком подкатил к горлу. – Мама настаивает, чтобы мы непременно сегодня уехали.
– Я слышала, тебя вчера на пристани выловили, – по ее лицу пробежала тень, но так быстро, что Женя даже не понял, как Таня относится к его поступку.
Так они стояли и молчали, не зная, что еще сказать друг другу.
– Как ты? – спросил он наконец, не зная, насколько это будет уместно.
– Да нормально вроде, – она пожала плечами.
– А похороны когда?
– Завтра.
Они еще помолчали некоторое время, потом она неожиданно заговорила, очень быстро, путаясь в словах:
– Когда его достали, он уже мертвый был. Кирюха говорит, не хватался даже, а это плохой знак… Но они, конечно, пытались, это, как его, искусственное дыхание… А «Скорая» только через час приехала. И милиция… Нас всех допрашивали, и меня тоже.
– А я? – тихо спросил он и тут же испугался, что Таня неправильно поймет вопрос, но она ответила именно то, что было нужно:
– А тебя потом хватились, стали искать, еле нашли на берегу. Ты как без сознания был. Хотели даже в больницу вести, но доктор посмотрела, укол сделала и сказала, что не надо, лучше дома…
И вдруг, без всякого перехода:
– Знаешь, что в этом во всем самое жуткое? Глаза его отца. Никогда в жизни ничего страшнее не видела… И плохо, что он не пьет сейчас, все боятся, что руки на себя наложит…
– Ты мне оставишь свой адрес? – спросил Женя.
– Зачем? – Она пожала плечами, но, не дав ответить, тут же достала из кармана листок и всучила Жене. Ясно – заранее заготовила. А потом, не прощаясь, повернулась и вышла со двора. И он подумал, глядя ей в спину, что вряд ли они когда-нибудь напишут друг другу хоть пару строк.
Вышло, впрочем, иначе. Уже в сентябре Женя, сам не зная почему, написал Тане длинное письмо. О школе, о друзьях, о секции борьбы, в которую записался, о фильме, который видел в кинотеатре. Но ни слова о Ване.
Таня не ответила. Он разозлился, написал еще и еще, но ответа так и не получил. И тогда Лохнесс решил, что больше писать не будет, но, когда вырастет, обязательно найдет Таню, приедет к ней и, глядя в глаза, спросит, почему же она не отвечала на его письма. Разумеется, ничего подобного не произошло.
А в то утро они с мамой взяли свои чемоданы и отправились на пристань, чтобы уехать и никогда больше не возвращаться в эту деревню.
Когда они садились в «Ракету», то встретились с соседкой Тани, высокой старухой в ярко-зеленом платке. Она внимательно посмотрела на Женю, пожевала губами и отвернулась.
«Она тоже, конечно, все знает. Она, может, хотела бы плюнуть мне в лицо, но стесняется мамы», – почему-то решил он. Воздуха вдруг стало не хватать, и он не пошел в салон, а бросился на корму, схватился за поручень и стоял там до самого отплытия. К его удивлению, мама за ним не пошла.
Наконец судно отчалило. Лохнесс не двинулся с места, все стоял и смотрел вниз на бурлящие водные дорожки, оставляемые водометами на глади реки. В голове не было никаких мыслей.
Вдруг кто-то тронул его за плечо. Он вздрогнул и нехотя обернулся. Рядом стояла мама. На лице ее отразилась многодневная усталость, она как будто постарела лет на пять, сеточка морщин поселилась рядом с еще молодыми глазами. Она слабо улыбнулась, взяла Женю за плечо и обняла.
– Нам обоим лучше забыть. И жить дальше, – сказала она.
– Я не смогу, – хмуро ответил Женя, вырываясь из объятий.
– Сможешь. Время пройдет, и сможешь. Ты ведь ни в чем не виноват, запомни это, что бы ни твердил хоть весь остальной мир. Я знаю. Ты любил его.
Лохнесс ничего не ответил. Она нагнулась к нему и прошептала:
– Он научил тебя ценить жизнь еще сильнее. Запомни это навсегда. И проживи ее так, чтобы не было стыдно, проживи за двоих, если сможешь.
Он поднял заплаканное лицо и ответил:
– Я постараюсь.
После этого мама отвезла его на дачу к подруге, и через некоторое время воспоминания о том, что случилось в Сташкове… нет, не исчезли, но поблекли, стали менее болезненными и яркими.
А осенью он пошел в школу и окунулся в новые проблемы.
* * *Потом, взрослея, он часто думал: а вот этого Ванька никогда не увидит, а вот здесь никогда не побывает. При этом ему всегда становилось грустно. И еще огромное потрясение Женя испытал, когда прочитал «Жизнь Клима Самгина». Его поразило, как похожа пережитая им драма на описанную Горьким сцену гибели Бориса. «Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?..»[1]
Сейчас, ночью, сидя на заваленной снегом скамейке, он, еще молодой, но абсолютно сломленный человек, понял вдруг, что мальчик не только был, но и оказался счастливее его. Ваня навсегда остался в беззаботном детстве, где дружба до гроба, радость на всех, веселье до колик. Эта мысль поразила до глубины души.
«Зачем жить? – думал Крутилин. – Чтобы зарабатывать, тратить, разочаровываться в друзьях, в любимых? А потом умереть? И зачем все это и кому это надо? Как невыносимо на душе… И с этим теперь жить?..» Мысли становились тяжелыми. Надо было что-то делать, и решение созрело.
Он поднялся и тяжелой неровной походкой направился к дороге. «Только бы повезло, только бы повезло», – приговаривал он про себя.
Машин на бульваре в это время было уже не слишком много, сбавлять ход при виде голосующего Лохнесса они не спешили. А те водители, которые все же останавливались, услышав, куда ехать, отрицательно качали головами и жали на газ. Даже «гости столицы» с Кавказа или Средней Азии, обычно готовые везти куда угодно, лишь бы хорошо заплатили и показали дорогу.
Когда рядом тормознул старый «Додж» с кузовом «универсал», Евгений уже успел порядком замерзнуть. Водитель, бородатый мужчина лет пятидесяти с зажатой в зубах сигарой, сначала просто удивился:
– Куда?! Ночь на улице, какое за город!
Но Крутилин вцепился в него мертвой хваткой:
– Я тебе заплачу. Много. Очень много, – он стал вытаскивать из бумажника деньги.
Водитель посмотрел на него, на деньги, снова на него.
– Ладно, черт с тобой, садись.
– Мы туда за час доедем, я ручаюсь, – Крутилин не верил своей удаче. – Я тебя не обижу. Бумажник весь твой.
– За час не доедем, а за полтора доберемся, – пробасил бородатый. – Я те места знаю. Только, чур, деньги вперед. Бумажник, так и быть, себе оставь, а деньги я возьму.
Крутилин вынул все имеющиеся купюры:
– Держи.
Бородатый дал по газам.
Теплое нутро автомобиля обволокло Лохнесса, и он, привалившись виском к двери, мерно покачивался ей в такт.
– Музыку включить? – спросил бородатый.
Евгений не ответил.
* * *В начале августа 1995 года Лохнесс с двумя приятелями махнул отдыхать в Крым. Ему было двадцать четыре года, он уже владел своим бизнесом, заработал первые в жизни «солидные» деньги и жаждал развлечений и приключений.
В тот день они поднялись на одну из красивейших крымских гор – Ай-Петри. Полюбовались открывавшимися сверху видами и, объевшись тяжелой восточной еды в ресторане на вершине, довольные и усталые, решили, что пора идти обратно. Шагали весело, спускаться по петляющей дороге, с поворотами на сто восемьдесят градусов, прозванными в народе «тещины языки», было куда проще, чем взбираться.
Они дошли до знаменитой Серебряной беседки и остановились, чтобы сфотографироваться на ее фоне. Внезапно послышался шум мотора, и из-за поворота показалась машина. Она остановилась недалеко от ребят, прямо напротив крутого обрыва. Из автомобиля опрометью выскочила девушка в белом платье и скрылась за соседними кустами. Очевидно, ей стало плохо за время путешествия, резкие изгибы дороги и перепады давления часто играли такие злые шутки с непривычными туристами.
Сам не зная почему, Женя обратил внимание на машину. За рулем зеленых «Жигулей», крепко в него вцепившись, сидела еще одна девушка, бледная, с каким-то отстраненным и пустым взглядом. Взгляд этот Лохнессу не понравился. «Наркоманка, что ли?» – подумал он и поспешил отвернуться.
В это время из-за кустов показалась первая девушка, и парни наперебой принялись заигрывать с ней: она оказалась очень симпатичной и к тому же здорово была смущена произошедшей с ней неприятностью.
Женя не отставал от приятелей и уже забыл про вторую девушку, сидевшую в машине, когда услышал звук, из-за которого весь покрылся мурашками. Это был шорох шин по гравию. Он медленно обернулся и увидел, как автомобиль, набирая ход, приблизился к краю обрыва… Бампер мелькнул в воздухе, и через мгновение где-то внизу раздался жуткий грохот и скрежет, а следом за ним – звук взрыва. Ребята ошеломленно застыли на месте, потом бросились к краю пропасти и увидели полыхавшую огнем груду железа.
Это происшествие всколыхнуло обычно беззаботных курортников и породило много слухов, еще долго будораживших Южный берег Крыма. Говорили, что тормоза были неисправными, что у водительницы случился сердечный приступ, даже высказывалось предположение, что она просто заснула за рулем.
Но, пожалуй, только Женя знал, что это не так. Еще долго он вспоминал пустой взгляд той девушки. Теперь он был уверен, что девушка не наркоманка, она находилась в полном сознании, когда машина начала скатываться с горы. Она нарочно так сидела и ничего не предпринимала, не нажимала на тормоз, не звала на помощь, просто позволила событиям произойти так, как они произошли. Получается, они с друзьями были невольными свидетелями настоящего самоубийства. Ее подруга тогда плакала, билась в истерике и утверждала, что не знает, почему так произошло, что ничего не предвещало беды, но Женя ей не поверил, он ведь видел те отчаявшиеся глаза. Такие глаза бывают на перепутье. На полпути между жизнью и смертью.
* * *Сейчас, в снежную рождественскую ночь, Лохнесс вспомнил ту девушку в Крыму и понял, что принял единственно правильное решение в своей жизни, которое по-настоящему что-то изменит. Сколько он пытался до этого? Сколько играл с фортуной, боролся, падал, снова вставал, но пришел момент, когда надо признать: у него не получилось. Признать и сделать выводы.
Жить ему больше незачем. То, что было дорого, он потерял в одночасье. Мамы уже нет, стыдно ни перед кем не будет. Кто у него еще остался из близких? Никого. Со своим отцом он незнаком вообще, тот горевать не станет, даже если и узнает. Что уж тут говорить… А про жен, теперь уже бывших, и думать не хочется.
Получается, никто не будет плакать по Лохнессу. Может, и не вспомнят, что он, такой, вообще жил на свете. «А был ли мальчик-то?»
По идее, уйти можно разными способами. Повеситься, отравиться, выброситься из окна, застрелиться (жаль, не из чего), прыгнуть с моста в реку… Ну, пусть не в реку, сейчас зима, но на автостраду или на железную дорогу. Однако все варианты один за другим Женя отмел. Что-то очень мучительно, слишком неэстетично, а бросаясь, например, под поезд, ты волей-неволей делаешь причиной своей гибели постороннего ни в чем не повинного человека. Смерть все же – дело интимное. Поэтому он и ехал сейчас на дачу, туда, где было его последнее пристанище, не оскверненное ничьим предательством и связанное лишь со светлой памятью мамы. Она купила участок, хотя и влезла в жуткие долги, на следующий год после лета в Сташкове, ездила туда при любой возможности, а выйдя на пенсию, и вовсе проводила там время с апреля до поздней осени.
С тех пор, как она заболела, дом так и стоял законсервированным. Лохнесс с женами предпочитал ездить в отпуск за границу, а если и отдыхал в России, то исключительно где-нибудь на элитных турбазах.
Теперь он радовался, что после маминой смерти не продал дом. Там есть газ, печка. Можно разжечь печку и не открывать заслонку, тогда он к утру обязательно угорит. И никто и не подумает на самоубийство, по крайней мере, доказательств не будет. Пьяный человек, поссорился с женой, поехал на дачу и забыл отодвинуть заслонку. Случается.
В конце концов, он сделает, как та девушка в автомобиле, – просто зажжет огонь и не будет ничего предпринимать. Он вдруг понял, что всегда подсознательно восхищался ее силой духа. А сейчас с легкостью может сам поступить так же.
«Легко быть сильным, когда нечего больше терять», – горько подумал он.
Итак, решено, он покончит с собой. И все будут счастливы. Карина получит Марину. Марина получит квартиру, джип, и хотя их, может, и отберут за долги, но Карина не даст ей умереть с голоду, поделится.
Вика. Вот Вика, пожалуй, расстроится… Но хватит уже о других думать, он все время о них думал, сначала о Карине, потом о Марине, и ничем хорошим это не закончилось. А Вика… Может, расстроится она лишь потому, что потеряет работу. Надо искать новую, а в условиях кризиса это непросто. Сколько таких, как она, помощников руководителя на улице оказалось? Но ничего, она справится… Она умница… Вика…
– Эй, камрад, просыпайся!
Женька открыл глаза. Как это он ухитрился заснуть?
– Что, уже приехали?
– Приехали, – пророкотал бородатый, – мать его так! Почти на тот свет.
– Уже?.. – не понял Женька.
– Не знаю, как насчет «уже», но дальше дороги нет.
Крутилин поднял голову и посмотрел через переднее стекло. Свет фар упирался в преграду – поперек дороги лежало большое дерево.
– О господи, где это мы?
– Как где? Да на пути к твоей деревушке. Я, как положено, сразу за постом ГИБДД свернул с шоссе на проселочную дорогу – а тут на тебе здрасьте! Чуть шею себе не сломали. Хорошо, что я скорость здесь сбавил, – бородатый был уже без сигары.
Лохнесс попытался разобраться, где они находятся, но из машины ничего не было видно. Тогда он вышел и огляделся. С одной стороны дороги глухой стеной стоял лес, и было слышно, как гудит в верхушках ветер и деревья, отвечая ему, скрипят и постанывают.
По другой стороне, немного поодаль, тянулось кладбище. В ярком свете месяца легко угадывались кресты, а почти у самой дороги чернела какая-то страшная, непонятной формы, громада. Только через некоторое время Евгений наконец понял, что это такое – руины старой разрушенной церкви.
Не думая ни о чем, повинуясь невесть откуда взявшемуся необъяснимому импульсу, он двинулся в ту сторону, не обращая внимания на доносящееся сзади: «Эй, камрад, ты куда?» Идти оказалось совсем недалеко.
Даже в таком полуразрушенном состоянии церковь выглядела величественно и поражала своими размерами. Вблизи благодаря лунному свету и блестящему полотну снега можно было рассмотреть все детали, вплоть до надписей и граффити, которыми были расписаны и уцелевшие куски стен. Жалкие останки церковной ограды напоминали, что здесь когда-то был богатый приход, а значит, много деревень вокруг. Два-три завитка пропавшего навсегда узора решетки торчали из разрушенных столбов ограды. Сверху, покачиваясь на железной арматуре, сиротливо свисали намертво слипшиеся огрызки кирпичной кладки. А на куполе, вернее, на том, что от него осталось, каким-то чудом держался ангел. Ангел с одним крылом. Очевидно, когда-то он держал в руках крест, венчавший церковь. Где теперь тот крест?.. Так и парил облезлый ангел, прижимая к груди два сжатых кулачка…
Лохнесс остановился, сраженный тем странным ощущением, которое вдруг захватило его целиком. Это открывшееся ему в рождественскую ночь видение он воспринял как знак свыше.
«Я сам как вот эта церковь… – пробормотал он. – Я еще жив – но я уже умер…»
И тут же почувствовал, что ошибается. Несмотря на заброшенное состояние, в храме не было и намека на умирание. Наоборот – весь его гордый и все еще полный достоинства вид словно призывал к жизни, заставлял продолжать существование и бороться, несмотря ни на что.
Женя почувствовал, как перехватило горло и слезы подступили к глазам. Что это? Он ехал, нет, он бежал, чтобы на маминой даче подвести черту. Он рвался к смерти как к избавлению от всех проблем, как к возвращению к покою. И вдруг само место покоя – церковь и кладбище – остановило этот бег. Струна, натянутая до предела, лопнула. Полный банкрот – как в бизнесе, так и в личной жизни – Евгений Крутилин сел в сугроб и завыл.
– Эй, камрад, ты че, че?.. – подбежал к нему бородатый.
Женька рыдал, закрыв лицо руками.
– Ну правда, чего ты? – Бородатый опустился рядом с ним на корточки, неловко обнял за плечи, пытаясь заглянуть в лицо. – Случилось что, да?.. Тебе очень надо было?.. Там чего – на даче-то? Мать, что ли, ждет?
– Нет матери… – мотнул головой Лохнесс. – Умерла. Там больше никого нет.
– Ну а раз никого, чего туда торопиться-то? – резонно заметил бородатый. – Видишь, нам дорогу самим не очистить, здесь трактор нужен. Так что, может, обратно поедем?..
Бородатый говорил с ним участливо и осторожно, как с ребенком или больным.
– Извини, старик, – Женя поднялся. – Давай обратно… В Москву.
– Правильно, в Москву… обратно. – Бородатый засеменил к машине, то и дело оглядываясь, идет ли за ним Евгений. Усадив наконец своего непутевого пассажира, и сам сел за руль, включил зажигание, дал задний ход, развернулся и пулей рванул в сторону города.
– Ты только это… – попросил Лохнесс.
Водитель с тревогой обернулся – что еще?
– Скажи, как это место называется… Знаешь?
– А чего ж не знать? Рождественское это. Тут до дачи твоей километров пятнадцать, не больше, если по прямой, через лес…
Обратно ехали под неумолчный говор бородатого. Он перечислил всех своих родных – теток, дядек, шуринов и племянников, проживающих в этих краях, поведал Крутилину краткую историю своей жизни, рассказал, как он солит грибы да как надо правильно закидывать удочку. Словом, всячески пытался отвлечь своего ночного пассажира от грустных дум.
– У тебя сколько детей? – спросил бородатый.
– Детей… – Крутилин понемногу приходил в себя. – Нет у меня детей.
– А у меня двое. Девчонки, – бородатый заулыбался. – Хочу еще одного. Но чтоб парень. Я своей так и сказал.
– А она?
– А что она? Хихикает. Ты, говорит, брак гонишь, а мне отдуваться… – Бородатый громко засмеялся. – А ты давай, парень, детей заводи. Они по-другому заставляют на жизнь смотреть.
– Это как по-другому?
– А так. Ты начинаешь не для себя жить, а для них. Смысл в жизни появляется.
Когда они въехали в Москву, был первый час ночи.
* * *У Автозаводского моста Крутилин вышел. Здесь, в одном из безликих старых домов, жила Вика. Вика… Слабый тонкий стебелек с огромными серыми глазами.
«Ви-ка», – он тихо произнес, как бы пробуя на язык это новое для него и такое знакомое имя.
Вика работала у него секретаршей, точнее, как это сейчас называется, помощником руководителя. Без всякого фривольного подтекста. Крутилин в этом не нуждался, он был счастлив с Мариной. А вот Вика… Вика любила своего шефа. Нет, она никогда не намекала на свои чувства, не пыталась кокетничать и не переходила границ. Она страдала молча, и лишь глаза выдавали ее. Крутилин делал вид, что ничего не понимает. Он давно решил, что лучше не вселять в девочку несбыточных надежд, не разрушать ее жизнь. Повздыхает и перестанет, найдет себе другого. А на него рассчитывать нечего, для него до последнего дня вообще никого не существовало, кроме Марины…
В храме неподалеку звенели колокола, шла праздничная служба. Лохнесс остановился и прислушался. Перед глазами встала та, порушенная, с однокрылым ангелом, церковь. «Стоит там сейчас одинокая, – подумал Женя, – такая же одинокая, как и я, с такой же израненной, как у меня, душой. А ведь могла бы, как эта, городская, собрать прихожан сегодня на службу. И звон колокольный как бы далеко был там слышен. Там наверняка долгое эхо…»
Лохнесс не был верующим человеком. Ученый-математик, он все обосновывал с точки зрения материи и цифр. Но тут он ухватился за этот колокольный звон, как за спасательную соломинку, и сами собой его губы зашептали: «Господи, спаси и помоги! Спаси и помоги мне, непутевому и не знающему тебя, наставь меня на путь истинный, если еще это можно…»
С этими словами Лохнесс, скользя и шатаясь, решительно направился к дому, где жила Вика. Он никогда не был у нее, но несколько раз подвозил и знал, что она живет с братом в крохотной двушке. Девушка показывала ему свои окна: третий этаж, прямо над подъездом. Евгений шел, прибавляя шаг; хотелось поскорей развеять зарождающиеся сомнения: нужен ли он еще этой девочке. Это могло бы показаться смешным – он, считавший себя таким сильным и уверенным, повидавший на своем веку всякого, сумевший с нуля поднять и раскрутить солидный бизнес, цеплялся за совершенно, казалось бы, слабое существо, вся сила которого была заключена в ее влюбленных глазах. В последний месяц, когда всем стало ясно, что он разорен, в ее взгляде появилось новое выражение – сострадание.
– Вика, вы смотрите на меня, как на больного, – смеялся он. – Выше нос, еще не все потеряно.
– А я знаю, я верю, что все будет хорошо, все еще будет хорошо, – как заклинание, повторяла она.
Эх, дурак, куда он смотрел раньше? Зачем кидался на красоток, которым, кроме денег, ничего-то, как выяснилось, от него и не нужно было. Что у него теперь осталось от любви? Боль, обида, разочарование. И еще – отвращение, как тяжелый осадок, поднявшийся со дна и заполнивший всю душу.
– Так мне и надо, – бубнил он себе под нос, – был я ученым-очкариком, им бы и оставался, нет же, занесло меня…
Весь обратный путь он думал о Вике, думал с теплом, нежностью, надеждой и, пожалуй, даже любовью.
– Она меня любит, она меня поддержит, я соберусь и встану еще на ноги, – как заклинание, шептал Евгений.
Он попытался вспомнить, вспомнить все до мелочей, каждый день, который он провел рядом с ней, которой, оказывается, был так важен. А он ничего не замечал, не знал, дурак.

