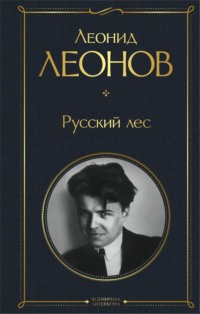
Русский лес
– Я старалась… но у меня не получается. – Внезапный свет надежды зажегся в Полиных глазах. – Варенька, ты же географичка, а он о лесе пишет: тебе легче всего разобраться. Кроме того, ты терпеливей всех на свете… почитай, пожалуйста, его сочинения, и потом скажешь мне одну сущую правду, ладно? – И тут же комсомольским словом поручилась, что больше никогда и ничего не попросит у нее до конца жизни.
– Что же, я готова, – не сразу согласилась Варя. – Но где мы достанем теперь эти книги?
– О, разве я заставлю тебя бегать по библиотекам! У меня все есть… почти все!
И, не давая подруге одуматься, она выхватила из-под кровати свой чемодан: так объяснился наконец чрезвычайный вес ее пожитков. Под слоем носильных вещей помещались книги: никак не меньше дюжины, в матерчатых переплетах и пугающе объемистые. Правда, между ними попадались и брошюрки, даже просто журнальные статьи, оклеенные корешками из обойной бумаги. Торопясь избавиться от непосильного груза, Поля выкидывала эти килограммы лесной мудрости прямо на пол к ногам подруги, то и дело справляясь с выражением ее лица.
– Ну, что ж ты замолкла? – виновато спросила она с колен.
– Нет, как было тебе обещано, я непременно прочту… со временем, – менее уверенно отозвалась Варя. – Однако он у тебя продуктивный сочинитель… Сколько их тут?
– Только двух не хватает. Знаешь, ты принимайся за чтение теперь же, а я тем временем подкину тебе недостающие. Начинай с тоненьких, а втянешься, я по себе знаю, там уж легче пойдет.
Итак, все устраивалось отлично: неподдельная радость светилась в лице у Поли, подкрепленная безоговорочной верой в неподкупность судьи. Вся жизнь Вихрова валялась на полу перед ними, его мечты и заблуждения, улики его любви и гнева, и прежде всего – черный, неоплатный труд, проделанный во исполнение мальчишеской клятвы Калине. Здесь были введения в лесные науки, также основы к пониманию леса как географического явления, товара, живого организма, климатического фактора, сырьевой базы народного хозяйства; но главные свои работы Вихров полагал еще впереди. Самая увесистая наверху носила название – Судьба русского леса.
Варя подняла и заглянула на последнюю страницу – их там было семьсот с чем-то. Почти весь объем книги занимали набранные петитом столбцы десятичных дробей, таблицы и карты России чуть ли не с Олеговых времен. Для прочтения подобного труда требовались не только специальные знания и терпеливая выдержка, но еще вдобавок энтузиазм любви или ненависти.
Варя колебалась: она успела сообразить, что для обстоятельного вывода ей никак не обойтись без ознакомления и с доводами вихровских противников, а равно и с государственной лесной практикой в разные исторические периоды России, на что уйдет не менее полугода.
– Видишь ли, я с удовольствием прочла бы все это, Поленька, но мне неясно… управлюсь ли я до отъезда. – Вдруг она усмехнулась, представив себя в роли арбитра по лесным делам. – Знаешь, положи-ка все это назад… завтра я попытаюсь добиться истины другим путем.
– Но ведь война, и, может быть, в эту самую минуту… – разочарованно настаивала Поля.
– Все беру на себя. С утра ты пойдешь к врачу. Потом займись алгеброй, пока есть время. К обеду завтра меня не жди. – Она приподняла за подбородок огорченное лицо подружки и заставила улыбнуться.
Очертания города расплывались в теплом тумане после дождя; точно так же и горе Полино таяло от материнской Вариной ласки. Ночь прошла без тревоги, утро, к счастью, выдалось такое же пасмурное. Докторша побранила Полю за легкомысленное обращение с зажигательными бомбами. Весь день длилась благодатная пустота полуисцеленья. Варя вернулась как раз к обеду – веселая, загадочная, голодная.
– Ты так ко мне присматриваешься, что я тебя немножко боюсь, – через силу пошутила Поля.
– И не без оснований, берегись. Могу проглотить тебя в один прием. Варила что-нибудь, окаянная?
– На всякий случай я сготовила на двоих, – и все не смела расспросить о результатах Вариной разведки. – Стыдись: я так тебя люблю, а ты меня съесть хочешь…
– Одно не противоречит другому. Как-то при мне, укладывая внучку, Наталья Сергеевна рассказывала ей про великаншу, которая так любила малышей, что на ночь непременно прятала парочку их себе в животик…
– По-моему, это не педагогично – прививать детям такие выдумки… – И опять Поля не решилась на прямой вопрос. – Что нового на свете?
Варя достала из сумки два розовых талона.
– Возьми, у нас сегодня праздник. Ходят упорные слухи, что какой-то там зондерфюрер поднял в Берлине восстание против своего ефрейтора… Это билеты в кино, правда, не очень хорошие, зато ты будешь сидеть рядом с виднейшими представителями нашей молодежи и кушать роскошное мороженое на палочке… Позволь, да это же настоящая пшенная каша? Поля, ты впадаешь в изысканность…
– Извини только, масло у нас кончилось.
– Вот и видно, что у тебя нет законченного кулинарного образования. Чудачка, кто же ест пшенную с маслом!
Она с наслаждением вдохнула с тарелки горячий пар и мысленно похвалила Полю за выдержку, с какою та удерживалась от допроса о самом главном.
После обеда она сама посвятила ее в свои мероприятия по розыскам правды о Вихрове. Ей еще вчера пришло в голову, что для постановки правильного диагноза желательно в первую очередь выслушивать пациента. С этой целью она отправилась в Лесохозяйственный институт и героически, около двух часов, прождала Полина отца в красном уголке. Вокруг здания наблюдалось оживление, обычное в это время года, когда начинается съезд студентов. Уборщица сообщила Варе, что в большой аудитории наверху происходит общее партийное собрание, на котором принимают в партию профессора Вихрова; при этом старушка назвала его по-домашнему Матвеичем. «Словом, Поля, поздравляю с благополучным исходом, цветы за мною… из первой же стипендии!» Вскоре Варя познакомилась с ним самим: Вихров спускался по лестнице, прихрамывая и взмахивая рукой, как бы отсчитывая ступеньки. Для завязки разговора Варя сказала ему, что ее двоюродная сестренка собирается поступать в их институт, но сперва ей хотелось бы ознакомиться, или, как она выразилась впопыхах, дыхнуть воздухом лесной науки.
– Но я же в архитектурный иду… Варька, ты солгала, как тебе не совестно!
– Во-первых, в твоем возрасте выбор специальности нельзя считать окончательным, и кроме того… разве ты перестала мне быть сестренкой?
– Ладно… а он?
Профессор выразил неудовольствие, что будущая студентка поленилась прийти сама. «Лесник нашего профиля, – сказал он, – это считать в уме, запоминать, сравнивать… и прежде всего ходить, ходить, не жалея ног». Он иронически осведомился у Вари, между прочим, что именно привлекает в лесу ее подопечную особу – цветы, грибы, ландыш или самые дрова; последнее слово он произнес якобы с оттенком нескрываемого раздражения. Варя объяснила выбор сестренки наследственным влечением, так как отец ее также является старым лесным работником.
– Как видишь, я старалась держаться в рамках правды.
– Дальше… а он что?
– Тогда он довольно справедливо указал, что если работник леса не сумел внушить дочке почтительного представления о своей работе, значит, он далеко не гений.
– Вот здорово, сам про себя… ну, а ты?
– Я выразила надежду, что дочка загладит отцовские упущения.
– Ой, Варька, даже голова закружилась… А он что?
– Рассмеялся и пригласил на свою вступительную лекцию недели через три… если я смогу тебя доставить хоть в детской колясочке, так и сказал… А к тому времени мы как раз вернемся с окопов. – В дирекции Варя получила сведения, что собственный курс Вихров читает лишь с третьего года обучения, но вводную речь, по многолетней традиции, поручают ему, и будто бы даже профессора смежных кафедр приходят послушать этого заступника лесов в его коронном репертуаре. – Надо полагать, что первую-то беседу с зеленой молодежью он ведет на доступном языке, и потратить на нее часок-другой тебе гораздо выгоднее, чем самой глушить тысяч шесть страниц убористого текста.
Не скрываясь, Поля все кусала и без того обкусанные ноготки, пока Варя не отвела ее руки.
– Скажи, Варька… он по крайней мере приятный в обращении человек?
– Я не советую тебе, милая, делить людей по этому признаку. Это может привести к большим просчетам.
– Но казался он хотя бы взволнованным… что его приняли в партию в такое время?
– Нет, я ничего такого не заметила.
Варе запомнились только черные пучки его бровей, желтоватый цвет лица, крупный под выстриженными татарскими усами рот, как бы приспособленный произносить не очень приятные слова, – хромота, угловатость повадок и наискось сброшенные на лоб волосы довершали облик малообщительного и побывавшего в нужде мастерового. К сожалению, Варе показалось, что все это лишь маска…
– …как, как ты сказала? – всполошилась Поля.
– Я говорю, маска, под которой скрывается большая доброта и даже чрезмерная мягкость.
– Но почему же – к сожалению?
– Не потому, чтобы я злых любила… но смирных не люблю. Всякая доброта и смирность влекут за собой взаимное всепрощение, а нам требовательные и гордые нужны, готовые ответить и на требовательность других. Поэтому вначале он мне больше понравился, чем в конце. Во всяком случае, обещанная лекция покажет, в какой степени ты виновата перед ним за опрометчивость своих подозрений. – Она мельком взглянула на поясневшее небо, предвещавшее скорый налет. – Ой, погода портится, не пропали бы наши билеты…
Так и получилось, что в кино идти не пришлось… Воздушную тревогу объявили рано, и никогда с начала военных действий такое количество вражеских самолетов не пробивалось на город. По замыслу врага, Москве надлежало обратиться в горстку золы, столько было сброшено огня, и все же опять его не хватило прожечь тонкую пленку людского сопротивления. Однако работы девушкам выпало много в тот вечер, и Поля отлично выдержала повторное испытание мужества.
Им пришлось стоять рядом в тот раз.
– А хорошо жить на свете, Варька!.. – кричала Поля в передышках, сбивая искры с затлевших рукавиц, вызывая у дружинников такую же улыбку, как в троллейбусе тотчас по приезде в Москву. – А ведь я даже в том раскаивалась, несчастная, что на свет родилась.
Варя же исполняла свое дело молча, и чем сильнее Поля выражала радость окончательного выздоровления, тем больше смущало Варю чувство вины перед подругой. Конечно, в те дни величайшей опасности и как всегда – политического единства, немало честных людей вступало в партию, чтоб разделить с ней труд и ответственность обороны… но та же пылкая восприимчивость, с какой еще вчера Поля преувеличивала свои подозрения, сегодня заставляла ее придавать несоразмерное значение вихровскому поступку. Второпях Варя как-то забыла сообщить Поле, что на том же партийном собрании в институте был принят в партию и профессор Грацианский.
Глава четвертая
1
Надо сразу же исправить неточности, вкравшиеся в рассказ Александра Яковлевича о кое каких скорбных обстоятельствах вихровской молодости. Действительно, в биографию Ивана Матвеича затесался досадный факт получения двадцати пяти рублей от видного промышленника, хотя и без расписки, зато из рук в руки и даже при свидетелях, правда, давно умерших. Вместе с тем достойно сожаления, что среди многочисленных вихровских коллег не нашлось смельчака – если не поучить наложением руки, то хотя бы упрекнуть в легкомыслии рассказчика, связавшего этот эпизод со всей дальнейшей и беспорочной деятельностью своего научного собрата. При желании Александр Яковлевич мог бы извлечь из тайничков своей памяти ряд дополнительных сведений, не менее поучительных для незрелой советской девушки. Прежде всего пусть бы она убедилась на примере, чего стоило нищему пробиться к знанию в те годы, в отличие от нынешних времен; наряду с этим уточнилась бы и дата происшествия.
Это случилось во второй половине лета 1899 года, в самый вечер прибытия Вихровых в Петербург. К слову, за безбилетность Агафью с ее мальцом высадили из поезда за две остановки до столицы, на Мге, так что только легкая лыковая обувь да отсутствие лишней клади позволили им завершить путешествие в тот же день. Мать с сыном долго блуждали по длинным проспектам, концы которых терялись в белесой мгле бедствия, охватившего тогда всю Россию. Медноватое в дыму, на заходе, солнце придавало пугающую призрачность соборам и дворцам, коляскам и мундирам, внезапно проступавшим в десятке шагов, – бронзовым царям на каменных подставках, золоченым грифонам на мостах и прочим загадкам, неразрешимым для подавленного окружающим великолепием крестьянского ума… Ничем нельзя пренебречь при учете состояния одиннадцатилетнего мальчика, уличенного самим Грацианским в предосудительном поведении.
Любая улика требует применения лупы, хотя бы потраченное время и не окупалось ценностью добытых подробностей. Ко времени прибытия деревенской родни Афанасий Вихров успел возвыситься до чрезвычайной должности коридорного в меблированных комнатах Дарьял. Дядя размещался в довольно тесной, зато вполне теплой каморке под лестницей, впрочем не очень тесной, если там же, кроме койки и колченогого стола, находились подпертое поленом кресло и рулон персидского ковра, подготовленного в чистку. Словом, несмотря на тесноту, все расселись удобно и сообразно наклону дощатого потолка, причем дальний угол достался Ивану, а крайнюю позицию у двери занял по росту сам Афанасий. Пожалуй, во всем Питере не сыскать было местечка уютнее для семейного свидания, если бы только при поминутном сновании по лестнице не сыпалась с потолка всякая дрянь на изысканное Афанасьево угощение.
Собственно, лишь лососина да рябчики в застылом соусе поместились на столе; блюдо с заливною поросятиной, например, покоилось на коленях Агафьи, а чайник, как вещь третьестепенную, пришлось и вовсе составить на пол, возле ног. Что касается торта со множеством лакомых завитушек, он был целиком передан в распоряжение Ивана. Отсюда, учитывая роскошество еды, скромное жалованье коридорного, а также его невероятно мрачную внешность, следовало заподозрить только что состоявшееся ограбление постояльца… впрочем, этого не смог бы предположить даже особо бдительный Александр Яковлевич Грацианский. Вся представленная пища имела несколько ковыряный вид… не настолько, однако, чтобы стала непригодной для употребления: стоило лишь повынуть вдавленные в нее окурки и посрезать обгрызенные места. В свою очередь, это объяснялось тем, что в Дарьяле шестые сутки гулял крупный денежный туз, полюбивший данное заведение за близость простонародной бани с отменным парным полком, тихость местоположения и еще за то, что ни в какой другой точке Российской империи не давали столь дивной квашеной капусты, наилучшего очистительного средства для богатырского похмелья. Обычно на первую половину кутежа гость откупал ресторацию в нижнем этаже, денька же через три, на главное беснование, переселялся в номер с избранным кругом наиболее стойких лиц. Таким образом, Афанасий не ложился уже три ночи, и, пока беседовал с родней, дважды гоняли его в буфет по неотложным купеческим надобностям.
В последний раз он воротился с заметным облегчением: гульба подходила к концу. Прежде чем пролезть в свою квартиру, он извлек из кармана поношенных плисовых шаровар еле початую бутылку хереса; сам он хереса не пил, а прихватил единственно для невестки, чтоб пригубила с устатку и постигла смак аристократической жизни… Необходимо сказать про Афанасия, что это был не плоше Матвея великан в синей крапчатой рубахе навыпуск, под жилеткой, с тяжким взором и такой смолевой бородищей, что Иван Матвеич всю жизнь ждал случая разузнать, не с дяди ли знаменитый живописец писал мятежного старшину в своем Утре стрелецкой казни.
– Все гудит, гуляка-то? – усмешливо догадалась Агафья, сдувая чайный пар с поднятого на пальцах блюдечка.
– Стихает, речного льда стребовал. С утра прибираться почнем. С игро-ой!
– Богатый, видать, коли гудит.
– У него их ровно щепы, денег-то. Прошлый раз гадальца с собой привозил, теперь пророка при своей особе завел. Первейшего сорта ругатель: веришь ли, аж в мозгу отдается, как сверлильце свое наставит…
– Пошто ж ему ругатель-то, дядя Афанасий? – почтительно спросил Иван, уже в ту пору отличавшийся недетской любознательностью.
– А значит, для прочистки ума… чтоб уличал его беспрестанно: хмель сгоняет. Ну, вроде как заместо хрена, для нюхания, при себе содержит. Купец-то ему, вишь, на обитель обещался капитальцу отвалить, вот старик и лезет из кожи вон, старается.
– Чем же таким он торгует, купец-то твой? – по-прежнему бесстрастно осведомилась Агафья.
– А ничем… он лес зорит. Сказывают, три реки ободрал, четвертую сбирается пустить по миру.
Афанасий и сам понимал, что это не доброе дело – родную землю голить, и даже имел в мечтах поговорить с царем при случае, чтоб навел наконец порядок у себя в державе, однако, в качестве коридорного, невольно преклонялся перед широтой разгула, перед этой ужасной волей к разоренью, в чем и заключалось его существенное отличие от покойного брата Матвея.
Со слов пьяного купцова приказчика Афанасий рассказал присмиревшей родне про начало той удивительной карьеры; десятью годами позже и так же случайно студент Вихров стал свидетелем ее бесславного конца… Выходец из бурлацкого рода, будущий искоренитель лесов сперва ходил с отцом в артели снимать обмелевшие караваны с перекатов, валил заветные помещичьи дубравы, еще красовавшиеся тогда кое-где на Руси, сиживал десятником на чужих катищах – всего хлебнул за свою постылую редьку с квасом. Нужда закинула его весной в низовья Волги, и с этой поры молва приписывала ему изобретение опасного, но доходного промысла, так называемых мартышек. Полая вода разбивала сплавляемые плоты о берега, рвала на прибрежных корягах, так что к концу пути от них нередко оставалось лишь обезличенное, шедшее россыпью, ничейное бревно. Речная голытьба ловила его в расставленные кошели и вторично продавала владельцам сплавных билетов. Вороватый и сметливый, этот человек в три года подмял окрестную мелюзгу и по ее скрюченным, ревматическим спинам вышел в щуки всероссийского значения. Заблаговременный подкуп плотовщиков в целях облегченной вязки удваивал добычу хищника… и вдруг он бросил реку. Рост промышленности и возраставший спрос на лесные товары погнали его как бесноватого с топором по лесам скудевшего дворянства. В отличие от известного в ту пору лесопромышленника Сукина, проредившего леса от Олонца до Пскова, или Афанасьева, вырубавшего центральные губернии, Кнышев подобно коршуну кружил над всей Россией, высматривая наиболее лакомые куски; только хрип древесного падения мог утолить его страшный зуд. Холодный пожар тем быстрей двинулся по русскому лесу, что обнищалое крестьянство легко поддавалось на приманку зимнего заработка. Мужики подпрягались к заморенным савраскам, помогая купцу сдирать зеленый коврик с родной земли. Было что-то символическое в образе терпеливого крестьянского коняги, как в морозный денек, весь дрожа, словно струна, исходя паром с натуги, рвался он из хомутишка да веревочной сбруи, из самой кожи своей, и валился под кнутом, кормилец, и потом его волочили на господскую псарню по целковому за животину. Таким образом, нередко к исходу рубки у мужиков не оставалось ни хлеба, ни леса, ни коня, и – тогда вразброд, с чем придется, бросались на обманщиков. Гул рассекающих воздух кольев сменялся последовательно скрипом судейских перьев, звоном цепей, женским плачем, но все это перекрывал лязг торжествующего топора.
Иван слушал дядю вполслуха; лишь упоминание о нанятом пророке запало ему в душу. В учебную программу тогдашних церковноприходских школ входили и библейские предания о такого рода отчаянных людях, чье призвание состояло в обличении земных владык; за это одних жгли или распиливали пополам, более удачливые возносились живьем на небо, но мальчик и не рассчитывал на такие увлекательные зрелища. Его бескорыстно потянуло взглянуть на профессионального пророка хоть сквозь дырочку от самого мелкого гвоздика. И как только дядю в третий раз кликнули в номер кутилы, Ивана точно ветром выдуло из каморки.
Он крался по малиновой, прилипшей к полу ковровой дорожке до тех пор, пока не услышал за приоткрытой дверью сверлящего, презрением налитого голоса: кто-то вычитывал там, в номере, разного рода устрашения, нараспев и как бы из священного писания. Словом, мальчику повезло: пророк находился в самом разгаре своей уязвительной деятельности.
– …думаешь, скверный грехолюбец, медаль-то от персидского шаха выхлопотал, так и управы на тебя нету? Врешь, купец… врешь, волосатая твоя душа. В апокалипсисе слово проставлено нерусское, авадон, сбоку звездочка. И такая же звезда под чертой внизу, при ей всего одно слово: губитель. Вот еще когда, значит, Иван те Богослов про тебя намекал…
– Чего городишь, старый хрен… кто меня там знает в апокалипсисе? Мое дело лес, – хриповато и довольно резонно огрызался уличаемый богач. – Эй, плохо, праведник, работаешь: не можешь, не можешь ты ничем меня пронзить… Знать, не выбьешь ты из меня нонче ни гроша!
– А ты не скалься, ой, не скалься, нищий царь… зрю, по бровам твоим зрю скорую твою, ужасную кончину. Ишь, ровно собачьим мехом подбитый, весь ты черный изнутре… ну, ответствуй мне, чей, чей это гнусный гроб в мутном зраке твоем отразился? – с новым приливом сил продолжал ругатель, и напрасно старался заглушить его чей-то щекотный женский смешок. – Опять же, голубь и лев живут с единою женою, а ты, гноепомазанный блудник, пошто богиню-то преисподнюю сюды приволок?.. белую, гремящую костьми! Не торопился бы, еще досытя натешитесь с ею в могиле…
Столь разнообразного набора угроз никогда раньше не попадалось крестьянскому мальчику. Он приник было к замочной скважине – взглянуть на пророка, пока того не пресек уличаемый нечестивец, но в скважине торчал ключ. Тогда Иван просунул голову в щель, и дверь сразу беззвучно отошла, а какой-то проходивший коридором озорник поддал его сзади коленом. Мальчик Иван пролетел сенцы, распахнул головой драпировку, запнулся о складку ковра и, во исполнение желаний очутясь посреди пиршества, молчал, сидя на полу и потирая ушибленное плечо.
– О, немножко запоздавши, бедни молодой шеловек, – с неуловимым костяным акцентом проворковал над ним женский голос.
Видимо, кутеж подходил к концу. Кроме Афанасия да посыльного молодца при входе, их оставалось всего четверо здесь, в довольно просторном номере, расписанном мраморной синевой под казанское мыло, и с красной плюшевой мебелью. На диванчике, лицом к спинке, спал в одних носках курчавый толстозадый дядька в короткой гусарке, окантованной черным шнуром; залихватские, с кисточками на голенищах, сапоги его стояли возле. Поодаль, у зеркала, пудрилась какая-то – долговязая, без кровинки в щеках, но с бездонными промоинами под нарисованными бровями, одетая в черное, щемящей красоты платье и – шляпищу с ниспадающими перьями. Ивану почудилось, что все это на ней нарочно, накладное, в том числе и желтые, в локонах, пленительные волосы, причем только стальной косы на длинном древке недоставало ей для полного сходства с тою, на которую ожесточенно намекал ругатель. Для отвода глаз она курила длинную папиросу, а дым тонкой струйкой вытягивался в окно, как бы в обход пророка. Последний оказался рыжим раскольничьим, не с Ветлуги ли, начетчиком в долгополом, замасленном и в обтяжку полукафтанье, с ременной лестовкой, которую зачарованно трогал лапкой откуда-то взявшийся котенок… В четвертом мальчик сразу узнал Кнышева.
Нет, Иван не мог ошибиться: это был он, разоритель Калины. Однако лесопромышленник заметно пооблез со времени их памятного знакомства на Енге, стал рыхлый и желтый после многодневной гульбы, весь – как соломой набили, и с глазами еще больше навыкате, чем прежде. Никто пока в России не догадывался, что уже началось падение Кнышева. Правда, он еще мог причинять зло и творил его посильно, но все чаще опережали его предприимчивые, более образованные соперники, подавлявшие его стихийный разбойничий талант беспощадной и расчетливой наукой обогащенья. Как все сильные в упадке и слабости, Кнышев становился ласковее к тем, кого вчера запросто перешагивал на своем пути. Оставалось утешаться раздумьями о тщетности бытия, и, может быть, убедительней, чем ветлужскому пророку, все кругом, включая и этот прекрасный, в чадных сумерках, город за окном, – все мнилось ему сейчас бесцельным и мимолетным сгущением материи.
Он глядел на мальчика с особой щуркой приглядкой, непонятной для тех, кто сам никогда не носил лаптей; затем последовал вялый знак подойти. Афанасий подтолкнул племянника вперед, как под благословенье, а Кнышев притянул его, упирающегося, железной пятерней и запер меж колен.
– Из деревни приехамши, не отошел еще, Ваня звать. Он у нас строгой, в лесу вырос, – заторопился коридорный, скороговоркой сминая слова. – Лесные мы, а братан мой так даже и погибнул в причастности к лесному делу… а уж силен-то был, Василь Касьяныч: я его робел! Вот двое ртов осталося, рази их без отца прокормишь? Так что стремлюся парнишку, в пекарню к Егорову определить.

