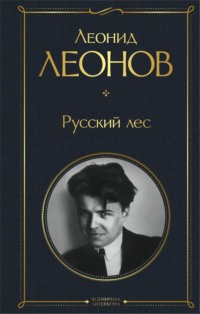
Русский лес
– Одну минутку, я прошу у вас всего одну минутку… – униженно забормотал он, чтоб разъяснить свои позиции. – Вы дурно поняли мой давешний неосторожный вызов, и я должен опровергнуть ваши невысказанные подозренья, которые, именно поэтому, мне оскорбительней плевка…
– Ступайте, – не оборачиваясь, сквозь зубы бросил Валерий, – а то я сделаю вам больно.
Он перешел улицу, но Слезнев следовал за ним, на расстоянье чуть большем, чем возможный взмах руки.
– Пусть я пока ничтожен, как всякий лишь вступающий на поприще революции… и я не хочу вам лгать, что полюбил вас навечно… потому что мы разных тактических убеждений, но ведь это не должно препятствовать хотя бы взаимному нашему уважению перед лицом общего врага? Я даже не набиваюсь на ответ, но прошу у вас всего одной минутки…
Соблазнившись послушать, какими сведениями располагает о нем Слезнев, Валерий остановился и стал закуривать, а тот немедленно понял это как позволение продолжить разговор.
– Я с вами как на духу! Ходят слухи, что еще в девятьсот пятом вы входили в известное общество лесных братьев на Мотовилихе… – меленько, как зернышки на птичьей приваде, сыпал Слезнев. – Ох и дали же вы им жару в тот раз! А по другой версии, и стычка с казаками на Васильевском острове… помните, у завода Шиффа?.. тоже не обошлась без вашего участия: ишь где-то височек вам повредили, не иначе как в рукопашной! Однако же никакое материальное тело не может находиться одновременно в двух местах, верно?.. и я вовсе не спрашиваю, как это случилось… но это же поистине гениально, и мне только хотелось высказать вам мое… ну, просто животное преклонение перед человеком, который…
– Вам лучше уйти заблаговременно, Слезнев, – угрожающе повторил Валерий, глядя на вскипавшие под ногами зеленоватые пузыри дождя; разговор происходил возле магазинной витрины с освещенными на просвет цветными стеклянными шарами, по каким в ту эпоху издали узнавались аптеки.
– И опять же все это недоразумение у Грацианских получилось не из стремления секреты ваши выудить, а, право же, скорей по младенчеству… Нам равенство хотелось подчеркнуть и независимость сторон, чтоб вы не подумали, будто мы… ну, маленькие, что ли, и боимся вас. Нельзя принимать это как обиду… напротив, я в любую минуту готов пожать вам руку, потому что…
Воодушевленный молчанием собеседника, он даже прикоснулся легонько к рукаву его пальто, и на сей раз Валерий уже не удержался от искушения исполнить свою начальную угрозу, после чего вторично перешел улицу.
5
Если только нарочно воду не мутил, оба слезневских предположения о местопребывании Валерия в годы революции были неверны; на этот счет у Валерия имелся надежный железный паспорт, как это называлось тогда. Однако по положению пропагандиста ему нередко приходилось бывать на рабочих окраинах, и полицейские наблюдатели могли составить приблизительное мнение о его принадлежности к левому крылу РСДРП… Значит, подозревали наличие повода для привлечения его прямо по пункту первому сто второй статьи, каравшей военным судом за попытку к ниспровержению царского строя.
В ту эпоху большевики боролись за сохранение и укрепление нелегальных партийных организаций. Будничная разъяснительная работа велась везде, откуда слово правды могло вырваться на простор народной молвы, – от трибуны Таврического дворца до кружков самообразования, страховых касс и студенческих землячеств. Однако Валерий заинтересовался Молодой Россией Грацианского не из стремления прибрать ее к рукам, как кричал о том ужасно разобидевшийся на него за пощечину Слезнев… и не потому только заинтересовался, что пожалел Казачихина с Наташей, шедших прямиком если не к виселице пока, то в объятия нового Азефа из Психоневрологического института; к слову, Валерий так и не узнал, что при техническом организаторе дела, Слезневе, Саша Грацианский играл в нем роль вдохновителя и идеолога. Но ему стало известно, что с помощью своей нечистой аферы Слезнев уже пытался проникнуть в рабочие марксистские организации. В последующей беседе, через несколько дней после скандала на Сергиевской, Саша Грацианский подтвердил, что Слезнев уже побывал у молодых печатников в Экспедиции заготовления государственных бумаг, и тогда Валерий принял предупредительные меры, чтоб пресечь влияние врага на рабочую молодежь.
Между прочим, Грацианский держался крайне заносчиво в том разговоре, происходившем в отсутствие Чередилова. Однако Вихрову удалось вызвать Сашу на запальчивую откровенность, приоткрывшую секрет новоизобретенного им и якобы неотразимого политического оружия. Оно носило наименование миметизма, в данном применении – притворства, то есть готовности идти на работу в любые царские, даже полицейские учреждения, чтобы доведением вражеских методов до абсурдной крайности взрывать их изнутри. Саша проговорился при этом, что великие цели стоят своих жертв, человеческих в том числе.
Вихров такими глазами поглядел на этого элегантного зеленоглазого мальчика и всеобщего любимца, словно рога отросли на нем.
– Позволь, мил человек… но ведь для того, чтобы они вашему брату, притворяшкам, поверили… вам понадобится и выдать им кого-то? – растерянно спросил он.
– Что ж!.. К сожалению, мы не обладаем таким гражданским терпением, как иные… глядеть на мерзости и дожидаться, пока это осуществится мирным способом, – холодно отвечал Саша Грацианский. – Любое святое дело скрепляется кровью мучеников…
– Но для этого полагается заручиться предварительным согласием самих мучеников, – усмехнулся Вихров. – В таком случае… кто же у вас намечает кандидатуры… вы ли, господин Грацианский, или сам Слезнев?
Саша еще молчал, но уже как бы шарил щелку вкруг себя, размером хоть в горошину: уйти. Тогда Вихров жарко высказался в том смысле, что рассматривает эту дьявольскую махинацию как последнюю степень душевного растления, что подобные вещи не забываются и посмертно, что только щенок безглазый мог попасть в такую нехитрую вражескую западню… И хотя, помнится, произнес при этом некоторые слова, выражавшие степень его гадливости, все же и тогда считал Сашу скорее жертвой, чем виновником.
– И как далеко продвинулось у вас там это дело? – очень тихо спросил все время молчавший Валерий. – Уже установили контакт?
– С кем это? – развязно, с неверным, раздвоившимся взглядом переспросил Саша.
– Ну, с охранным отделением, с кем же еще! Какие же именно предприняли вы там… практические шаги?
– Что вы… ой, что вы! – опомнившись, закричал Саша Грацианский и даже лицом смертно осунулся от ужаса, такой стужей пахнуло на него из глаз Валерия. – Все это только в мыслях пока, только в мыслях…
… Прежде всего Валерий предостерег от Слезнева партийные организации столицы, но Молодая Россия и без того распалась быстро: имена ее участников больше не всплывали в революционном движении петербургской молодежи. Надо оговориться: добровольно отстранившись от всех студенческих объединений, Грацианский сам распустил своих птенцов, всемерно пытался загладить вину, не напрашивался на общественные порученья, но своими связями с артистической средой помогал по устройству концертов в пользу столичной бедноты, причем всячески старался, чтоб сего деятельности стороной узнал Валерий; лишь ко времени второй революции, за большими делами, подзабылся этот грешок Сашиной молодости.
Приблизительно через год стало известно, что Саша Грацианский читает лекцию о Пушкине в так называемом Народном доме графини Паниной, близ Лиговки, где, кстати, выступали и виднейшие деятели пролетарского движения; это был тоже легальный способ закинуть в народ семена политических раздумий. Мушкетеры отправились послушать выступление Грацианского в рабочей аудитории, но лектор по болезни не явился… Всем хорошо запомнился тот вечер, 1 сентября 1911 года, потому что к концу его стало известно о состоявшемся в Киеве покушении на Столыпина. Последующая смерть главного усмирителя русской революции вызвала полицейские репрессии, коснувшиеся большинства помянутых лиц. Валерий получил вечную ссылку в отдаленные местности империи, с одновременным лишением гражданских прав, охранка сочла также нежелательным дальнейшее пребывание в столице и Вихрова. Чередилов счастливо избегнул общей участи, выехав в Костромскую губернию по вызову к умиравшему отцу. Что касается Грацианского, то обыск у него не дал вещественных доказательств причастности к крамольникам, и, по слухам, он отделался двумя сутками несколько стесненного пребывания в известной петербургской тюрьме, на Мытнинской набережной.
… Валерия угоняли в ссылку посреди зимы, когда Вихров снова попал в полосу нужды; очень кстати подоспевшая от неизвестного благодетеля, шестая по счету, получка была целиком передана товарищу при отправке его в край заполярной мерзлоты. Они разлучались в тот раз на шестнадцать лет. Провожающие заранее собрались у вокзальных ворот, в большинстве – передовые рабочие столицы. Стояла вьюжная ночь, всех немножко занесло снежком, когда подошла партия пересыльных… Сперва послышался глуховатый звон не то дорожных чайников, не то чего другого, потом при свете факелов заблестели обнаженные шашки конвоя. Каторжные шли попарно, но шагали враздробь, погруженные в свои думы. Вместе с политическими были там и бродяги, и сектанты, и двое настигнутых расправой потемкинцев со знаменитого броненосца, и степенные мужики, страдальцы за крестьянский мир, вроде покойного Матвея, и еще какой-то безунывный старичок, оказавший милость и приют беглому сыну, и чья-то злосчастная жена, на верную гибель перегоняемая к мужу по этапу, – всего близ трехсот, медленные, как свинцом налитые и чем-то бесконечно похожие друг на друга: родня. «Вот они, типографские литеры, – подумал Вихров, – из которых составляется негласная летопись народной жизни».
Был поздний час, солдатикам тоже хотелось спать, но все крепились, словно сообща выполняли важнейшее, хоть и подневольное, государственное дело. Вдруг незнакомая старушка рядом с Вихровым заволновалась, забормотала что-то вроде «ласковый ты мой, касатик родимый, веселая душа…», зажимая рот краем шерстяного платка; шестеро ее спутников, тоже неизвестные Вихрову, задвигались, загудели, рывком обнажили головы. Можно было подивиться, что у вечного студента и круглого сироты, если не считать проживавшей на Урале тетки, остается в Петербурге столь обширная родня… Валерий шел скованный об руку с долговязым, каким-то остекленевшим от стужи парнем, и такой кашель раздирал ему внутренности, что становился главным звуком той ночи. Вихрову удалось пристроиться к шествию, пока задний конвоир остановился подогнать отставших.
– Здесь деньги, все кланяются, береги себя, – скороговоркой, без выраженья и запятых, сказал Вихров, передавая другу трехкопеечный калачик. – Куда тебя теперь?
– Пока под надзор полиции на Мотовилиху, а там понадежнее куда-нибудь… Словом, в гости к себе не зову! – Он усмехнулся, неуклюже левой, свободной, рукой запихивая калач справа за пазуху. – Кстати, теперь можешь звать меня просто Степаном: разгадали…
– Кто же раскрыл тебя?
– Не знаю… но вели Грацианскому остерегаться Слезнева! – Он поднял свободную руку и помахал стоявшим без шапок рабочим. – Что Большая Кострома?
– Поехал на родину отца хоронить. Теплое-то есть на тебе?
– Ничего, злость греет… да и весна скоро.
Пока не растолкал подоспевший конвоир, последние три шага из одиннадцати они прошли в молчании: оно лучше всяких слов наполняло ограниченное время свиданья. Расстались даже без рукопожатия, спутник Валерия справа вдруг стал клониться на снег; как подрубленное, само просилось в землю его израсходованное тело.
Вихрова взяли двумя часами позже, по возвращении домой.
6
Свою двухлетнюю высылку он проскитался с лесоустроительной партией по Крайнему Северу России. Геодезические знания и достаточный навык в оценке лесной нивы пригодились молодому помощнику таксатора в такой же степени, как и вся предварительная закалка на нищету. Пристальные наблюдения за тамошним зеленым океаном окончательно определили направление Вихрова в лесной науке. Туляков неоднократно твердил на лекциях, что правильное лесное хозяйство— это дороги и еще семь раз дороги, без чего лес становится первобытной мглой, где все тянется к свету, борется, зреет и мрет с единственным назначеньем – стать когда-нибудь тонким пластиком антрацита; впрочем, под дорогами профессор разумел все необходимые инженерные средства, чтобы легко войти в сосновую дебрь, взять нужное и унести без затруднений… Но вот выяснилось теперь, что и эта дорога не приведет к процветанию данную отрасль народного хозяйства, если в корне не изменится пренебрежительное отношение к лесу со стороны любого владельца, как к безгласному и нелюбимому пасынку. Все говорило о том, что нет такого пункта в едином организме природы, длительное воздействие на который не сказалось бы в самых отдаленных ее областях. Вековые сплошные вырубки с последующим ветровалом нестойких дровяных пород вели к заболачиванью бескрайней, сглаженной ледником северной равнины. Едва исчезали древесные исполины, могучие растительные насосы, начинали скапливаться неиспаряемые грунтовые воды; набухшая почва затягивалась мхами, и у древесных семян уже не хватало силенок пробиться сквозь зыбкий ковер крохотных влаголюбов. Дальше требовались стихийные палы, ледниковые нашествия, чтоб взборонить запущенное, бесхозное пространство тундры. Она ширилась, сушила северные реки, нарушала водный баланс страны, родная сестра пустыни, наползавшей с юго-востока. Так постепенно избранная Вихровым лесная инженерия уступала место общей философии леса.
Через топи, порою лишь по охотничьим затёскам, сквозь комариную пургу, дымя жесточайшей махоркой вместо подкура, он исходил малый клочок нашей земли между нулевым и десятым меридианами. Он мерил углы, считал деловые бревна на десятину и так, за делом, полюбил неспешный и без лени уклад северной жизни, избавленной от всякого расслабляющего излишества, и тишайшее, ровно такой продолжительности лето, чтоб все живое успело улыбнуться солнцу. Побывал он и на славном острове Конь в устье Онеги и убедился, что коровы там едят рыбу, а девушки ходят своенравными царевнами-неулыбами, а жулья там вовсе нет.
Оттуда поднимался на онежские верховья посмотреть воровскую работенку иностранных концессий – как на отбор вырубали они кондовую беломорскую сосну, лучшую корабельную сосну на свете, оставляя по себе захламленную, разграбленную кладовую русской древесины. Или, пересекши Полярный круг, в устье Ковды, сидел на прогретом за день камушке с карелом Ананием, великим мастером любых древяных творений, от поморского, червленного киноварью туеса до ходких двухмачтовых шняк, благонадежных в любую океанскую погоду.
Плыл оранжевый вечер, и казалось, нет выше радости, как сидеть здесь, в Княжьей губе, под шепот кроткой воды у ног, глядеть в закатное небо, похожее на древнюю морскую битву с обильем крови и пылающих парусов, – вдыхать солоноватый ветерок, разбавленный ароматом древесной прели и сохнущих сетей, слушать скрип запани и певучую Ананьеву речь.
– Сказывался ты, будто древесных краев человек, а забыл поди отцовско-те ремесло? – приблизительно так, шутки ради, экзаменовал Ананий молодого лесника. – А скажи, какие бывают обруча?
– Бывают дубовые, а бывают и кленовые.
– А с сучком?
– Не куплю… – отсмеивался Вихров.
– Вот тоже черемховые хороши, – лукавил Ананий.
– Черемховых-то не пропаришь, отец.
Радовался чему-то Ананий.
– Дельно, дельно, желанный. Ну, скажи мне теперь про завертки к саням.
– У нас на Енге их с конопелью вязали.
– И то, правда твоя: с куделью-то и мороза они не страшатся, – и всякий раз зачем-то прибавлял полюбившееся ему слово панорама.
Залетная гагара кричала в тишине, скрипели уключины карбаса за мысом, да стучала лесопилка купца Русанова на длинном островке впереди. И тут поведал собеседнику Ананий, что берега того островка, где морские суда становились на причал, образовались из опилок, реек и горбыля, скинутых в воду за ненадобностью.
– Чего дивуешься, весь и Архангельский-то город, корабельно-то пристанище, на древе стоит. И не счесть, сколь спущено во сине морюшко добра и силов, земных и небесных. – Под небесной силой разумел Ананий солнышко, безмерно обожаемое за Полярным кругом. – Да считай, сколь его, нашего золотца, по лесу да по дорогам раскидано… небрежно живем, желанный. Обижаем родную матушку: надкусим да и бросим материнско-то угощеньице. Мы не жалуемся, наше житие богатое: треска и пикша, да сполох в небе, да морошка-ягода… панорама! А эвон жарких-то стран жители не имеют ни избицы, ни тубареточки. В букварике у внука писано: на голой земле да в кожаных шалашах сидят, чего уж хуже И вот приходят молодые наши робятки в лес, валят богатырско дерево, отсекают зеленую главу, волокут его водой да чугункой… и всяк его лущит, пилит да строжет по пути, сорит единственное наше богачество… и тает моя лесина, что льдинка на полой воде, и достигает до жаркой-то страны в размере не свыше веретенышка. А уж кака веретенышку цена? А кабы не гонять лесок по мытарствам, сладить бы у нас на месте ту избицу с тубареточкой, – глянь, лишняя бы рубаха молодухам нашим. Да кабы останки-то огнем не палить, в море не гноить, а к дельцу чинно приладить – и лишняя бы денежка нам набежала. И на те бы медные прибыли привезти нашим деточкам на Ковду яблочко, хоть зелененькое… посколь не хуже прочих они, да и солдатушки из них ладные получаются. – Он поднял на зачарованного собеседника детски ясный взор. – А хватит копеечек, тут бы и старикам хоть по горстке сушеного изюмцу. А то еще, верно ли сказывают, виноградье-плод на свете имеется. Ой, сладок, говорят… не едал ли?
Было в облике Анания что-то привлекательное и неизгладимое, роднившее его с Калиной. Со временем к этим двум голосам присоединились и другие голоса родной земли, подслушанные Вихровым в последующих скитаньях… Позже, на знаменитых вихровских лекциях, это они говорили устами профессора, что любовь к родине, чем и пишется национальная история, немыслима без бережного обхождения с дарами природы, предоставленными в распоряжение не одного, а тысячи счастливых и разумных поколений. И пожалуй, скорее карелу с Ковды, чем самому Ивану Матвеичу, принадлежала крылатая концовка одной из них: «Наклонись, не пожалей спины, советский человек, и подыми этот ближний миллион, что давно уже под ногами у тебя валяется». К сожалению, этот немаловажный вопрос о повышении доходности в лесном промысле севера Вихров неосторожно подкрепил Ананьевой притчей о зеленом яблочке, расцененной Грацианским в одном частном разговоре как сентиментально-демагогическая и даже враждебная вылазка якобы против дружбы советских народов.
Разговор этот состоялся много лет спустя в деканском кабинете Лесохозяйственного института, за полчаса перед одним, весьма памятным обсуждением вихровской деятельности. В тот день многие видели их сидящими рядом в дружеской беседе, так как оба держались мнения, что научная борьба не должна отражаться на их личных отношениях, сложившихся еще в пору царских гонений.
– Плохо выглядишь, браток… смотри не рухни, – подбодрил Грацианский свою жертву словцом товарищеского участия. – Все буйствуешь… и прямо скажу, не понравилось мне это Ананьево яблочко: с червячком оно. Схлопочешь ты себе неприятности по первому разряду… А почему бы тебе не отдохнуть, не погулять под черным паром годок-другой, э… и даже третий? Мне при моих слабых легких гораздо виднее, каким бесценным благом является неповрежденное здоровье.
– Ну, при своих слабых легких, Александр Яковлевич, ты дожил почти до пятидесяти годов и еще не устал гадить на мой рабочий стол, – неожиданно грубо и желчно посмеялся Вихров, что объяснялось его естественным состоянием перед проработкой.
– Все шутишь, Иван, а зря. Сколько у тебя гемоглобину? Не знаешь, а в нашем возрасте пора знать. Береги себя хотя бы для нас, твоих поклонников, и э… сателлитов. Представь, о чем же я буду писать, если ты… ну, скажем, расхвораешься? – Прямой угрозой припахивал тот ножовый разговор. – А в конце-то концов, черт с ним, с лесом… здоровье дороже полена, даже самшитового!
– Дай мне вторую жизнь, я употреблю ее на доказательство тех же истин.
Тень застарелого раздражения набежала на лицо Грацианского:
– Но мы-то знаем с тобой, милый, что истины не бывает. Можно говорить лишь о страстном движении человека к ней, составляющем предмет истории. В данном случае лес надо рассматривать как повод, который помог тебе проявить свою личность, закалиться в лишениях, повидать страну… Кстати, говорят, ты недавно даже на Енисее побывал?.. когда это ты успел?
– Да, держу там под наблюдением рощу одну уже пятнадцать лет. В пору молодости я ведь постранствовал немало, пока не охромел.
– Вот и поделился бы впечатлениями! И вообще давно мы с тобой не сидели за бутылкой, с глазу на глаз… с тех пор, пожалуй, как нас заодно с Валерием замела охранка. Кстати, как это ты сумел тогда из ссылки выбраться? – и подозрительным взглядом, поверх очков, уставился Вихрову в переносье.
На самом же деле Грацианскому было отлично известно, что из ссылки Вихров выбыл по амнистии тринадцатого года и свыше года затем пребывал в непонятных скитаниях по стране. Действительно, вместо возвращения к прерванной учебе или жаркой общественной деятельности, как поступил сам Грацианский незадолго до первой мировой войны, Иван Матвеич предпринял тогда полугодовое путешествие по губерниям Европейской России – даже с заездом в Сибирь. Кстати, по расчетам Грацианского, заработанных на севере средств Вихрову могло хватить недель на семь, и оттого его, как ребенка, мучило любопытство: продолжались ли и после ссылки даяния неизвестного покровителя?..
И правда, она выглядела несколько загадочной, эта бродяжная прихоть, казалось бы, изголодавшегося в ссылке и внешне рассудительного человека, чего ради отвергнувшего все соблазны столичного бытия? Полупешком и впроголодь пускаться в тысячеверстную прогулку, чтоб вникнуть в незамысловатые повести исподней русской жизни, – слезать на полустанках поглуше и брести невесть куда до встречного шляха, дорожной ветки, малосудоходной речушки… и снова тащиться с паломниками в дальнюю обитель, трястись зайцем на товарной платформе, плыть матросом на камском буксире, пока не пожелается исчезнуть для других, столь же сомнительных предприятий, – под руководством одноглазого столетнего старчища изучить сидку дегтя где-то на Припяти или послушать, как осипшими от царевой водки, гусиными голосами тянут песнь про своего героя астраханские амбалы: Волга любит, чтоб на ней пели о Стеньке… И всю дорогу всматривался в ненаглядные морщинки материнского лица – с нежностью и оттенком той неизменной грусти, без которой не бывает ни большой любви, ни, пожалуй, душевного здоровья… И, сам мужик, дивился нераскрытому богатству ее пространства, выносливости ее мужчин, строгой осанке женщин и по прошлому старался угадать будущее своего племени, взращенного на черном хлебе и снятом молочке.
7
Сбывалась старая вихровская мечта – еще раз прикоснуться щекой к суховатой, вскормившей его груди. С сапогами за спиной, в просолоневшей под мышками рубахе шагал по проселкам и суходолам от света до свету, и, подобно отраженьям в зеркале, одни и те же картины представали ему. Как сквозь полуденные видения, проходил он через невеселые свадьбы или, напротив, оживленные поминки с гульбой наотмашь, – мимо ярмарок с бешеными каруселями и русских пожаров, оставлявших по себе речку слез да горсть золы, – сквозь престольные праздники, драчливые сходы и прочие сборища, где горланит, пляшет, слезами заливается народная душа. Видел нешумную, пугливую детвору, утопленниц в ромашках и растоптанных конокрадов, пучеглазых урядников-стрекачей, мчавшихся под хмельком на мертвое тело, слепцов с гугнивыми преданьями Святославовых времен, кандальников за мирское дело… похоже, вся тогдашняя Россия шла навстречу Вихрову в своей заплаканной красе. И опять на неделю поглощало его огромное, даже без кузнечиков, безмолвие полей. Серый пламень суховея шелушил ему лоб и клин тела в расстегнутом вороте рубахи; тут-то и прилечь бы под хвойными кущами сей знаменитой лесной державы, но, как ни менял направления, все не появлялось спасительного леска на мглистом горизонте.
Глаза уставали быстрее ног. Садился у прохладного болотца с чахлым лозняком, глядел в оконце смуглой воды, где однажды зародилась вся эта незадачливая жизнь и где, верно, и теперь чей-то отважный, незримый глазу праотец в полмикрона ростом переплывал страшный, полуторааршинный океан. Или, задыхаясь от зноя, валился на некошеной пойме, то следя за ястребом в синеве, то разглядывая насекомую мелюзгу в травяных дебрях. Мураши с подтянутыми животами сновали по своим тропинкам, шумели на диких скабиозах шмели, земляные осы тащили поживу к норкам… и студент Иван Вихров спрашивал у них, куда же подевались в этой зловещей тишине истинные хозяева России?

