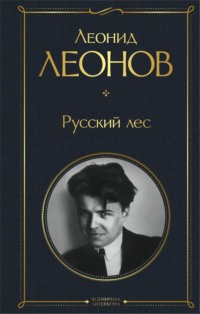
Русский лес
Как это в обычае у простых русских женщин, хотелось Таиске всплакнуть немножко и в обнимку до ночи просидеть, перебирая события невозвратных лет… Но после сделанных об отце открытий Поле было впору бежать отсюда без оглядки. Она старалась не думать, что означала находка на отцовском столе: и без того каждая лишняя проведенная здесь минута казалась ей изменой маме.
– Я сыта, и мне ничего не надо. Я ведь мимоходом забежала, в милицию прописываться шла… – твердила Поля без разбору, что в голову придет.
– Так ведь не разоришь ты нас, Поленька, мы богато живем. А к отцу-то можно и непрописанной… Ишь кто-то по лестнице подымается, не Иван ли: вот и пообедаете рядком. Давай, говорю, шляпку-то, я ее на гвоздь! – и, как когда-то, ногой притопнула на непоклонную, но Поля не отозвалась на шутку, и та отступила, померкнув. – Где ж ты, доченька… аль у чужих людей где приткнулась?
– Нет, я у своей подруги старинной остановилась… – и опустила голову, защищаясь от ее глаз.
Тогда Таиска приняла рамочку из ее рук и бережно вернула на место.
– А можно бы и у отца… Эка квартирища, хоть табуны в ей гоняй, а жильцов трое всего! По утрам, как в лесу, перекликаемся…
– У меня все есть, мне ничего не надо, – упорно повторила Поля. – Так что вы не сердитесь на меня, Таисия… Таиса…
Она сбилась и замолкла.
– Матвеевной меня зовут, – с холодком подсказала горбатенькая. – Отца-то твоего, вишь, Иваном Матвеичем, а я старшенькой ему сестрицей довожусь. И правда твоя, чего у нас хорошего. Живем в отдалении… в театр ежели, так трамваем на полтора целковых ехать надо. Да и то сказать, старики нонче скушные пошли, мору на них нет…
Она по-старушечьи, насухо, вытерла губы тыльной частью руки, отошла от двери в сторонку, как бы выпуская пташку на вольную волю, но подняла глаза на милую Поленьку и простила ей черствую неблагодарность, такую понятную и по молодости и по давности истекших лет.
– Коли не желаешь отцовских-то харчей отведать, девонька, дозволь уж, какая есть, вкруг тебя посидеть.
И чтобы вторично не обидеть ясную и кроткую преданность Таиски, Поля примирилась с необходимостью подарить целый час престарелой тетке, для которой она была вдобавок и весточкой с родины. Горбатенькая сама была с Енги, повыше Лошкарева, из Красновершья, живала в людях в Шихановом Яму и у брата в Пашутинском лесничестве, так что Поле пришлось описывать все известные ей по району изменения за минувшее время. Она покорно села у окна, выходившего на учебную рощу института; молодые сосенки выстроились там по линейке, такие непохожие на своих вольных енежских сестер, точно присмиревшие из опаски, чтоб не уволили их за нерадивость.
Как ни спешила Поля, разговор затянулся. На каждую мелочь Таиска отзывалась ответным воспоминанием и, не сдержавшись, обронила наконец три скупые слезинки о том, что хоть и грустное, а не воротишь. Слушать ее было интересно и немножко жутко, потому что каждое мгновенье Таиска в душевной простоте могла обмолвиться о чем-то самом главном, приоткрыть семейную тайну Вихровых, чему ревниво и целомудренно противилось все Полино существо.
Чтобы отвлечь в сторону нежелательный разговор, Поля высказала вслух догадку, что раньше, тогда, этих сосенок в окошке не было. Оказалось, дендрарий был заложен при самом основании института, но действительно четыре гектара на правом крыле, уничтоженные на дрова в годы гражданской войны и разрухи, Иван Матвеич подсаживал самолично вскоре после перевода в Москву.
– И в ту пору они стояли там… твоего росточку были, Поленька. Как водила я тебя туда гулять, ты с ними за ручку здоровалася, ёжичками звала. Разве упомнишь: годков-то!..
Нет, Поля еще помнила их, – только не глазами, а, пожалуй, поверхностью исколотых пальцев. И оттого, что Таиска принялась описывать, сколько Иван Матвеич жизни вложил в эту крохотную рощицу, она спросила у тетки в упор о том, что так мучило ее все время пребыванья тут: за что же, если он такой, бранят ее отца?
– А как же, как же не бранить-то его?! – горько посмеялась горбатенькая. – За то и бранят, что лес бережет.
– От кого же он его бережет… от народа? – враз насторожилась Поля, и в голосе как бы струнка прозвенела, естественный отголосок постоянного стыда перед теми счастливцами, чьих отцов не бранят никогда.
– Не от народа, а от топора, Поленька. У топора глаз нету, – тотчас отвечала Таиска. – Железный он, на рукоятку надетый.
– Интересно, как же ему стеречь его приходится, лес… С ружьем, что ли, вокруг ходит?
– Разве обойдешь его весь-то! Вот он и пишет книжки про то, что все меньше остается лесу у нас. Сама же сказала, что уж за Пустошá принялися… Да ведь кабы он еще тайком зудил, отец, а то ведь все книжки у него проверенные и от начальства дозволенные…
– Постойте-ка… – перебила Поля, неподкупно отстраняясь от протянутой к ней руки. – Я только спросить хочу, кто же, ведь народ хозяин лесу-то? И потом: известно ли Ивану Матвеичу, какая стройка идет в стране… и зачем его рубят, этот самый лес?
Тонкими, некрестьянскими пальцами Таиска раздергивала на волокна какой-то подвернувшийся ей лоскуток.
– Видишь, Поленька… ведь он лесник, отец твой. Дело его такое, раз он к лесу приставлен. Скажем, заболела ты… и нежелательно, скажем, Леночке тебя в постельке видеть. Вот и сбрехнет иной доктор-то в угоду матери, что ты здоровенькая. Ему-то что, ты ему чужая!.. Так ведь за такую неправду взашей гнать его надоть али даже в казенный дом сажать о сорока решетчатых окошечках… не так ли? Вот и он обманывать народа своего не желает…
Иначе объяснить она не умела, да и у самого Вихрова ответ на Полин вопрос занял бы слишком много времени, каким, к несчастью, не располагала ни Поля, ни, судя по всему, ее страна. Таиска потерянно улыбалась, как повинную опустив голову. Она переставала узнавать свою Поленьку в этом гневном, вдруг таком непримиримом существе, хотя, с другой стороны, и самой Поле показались поспешными черные обвинения, брошенные на Вихрова.
– Конечно, мне трудно судить обо всем этом с налету, – оговорилась она, вся в пятнах смущения. – Я как-то не представляю его совсем.
– Пойдем тогда, я покажу тебе твоего отца, – тихо сказала горбатенькая.
За руку она подвела Полю к стенке, где в фанерной любительской рамочке висела большая, человек на шестьдесят, групповая фотография, снятая давно, при очередном выпуске молодых лесоустроителей. Участники торжества были расставлены лесенкой, наподобие хора перед исполнением юбилейной кантаты и с тем лишь различием, что басы, которые поплотней и посердитей, довольно просторно сидели на стульях впереди, а один, явный регент с брюзгливыми усами, – даже и в кресле; прочие же с заметным уплотнением размешались в высоту, так что самые верхние стояли уже чуть спрессованные, вплотную и плечиком вперед. Неуместившаяся часть аспирантуры и служительский персонал с независимым видом полулежали на переднем плане, но Вихров, хоть это и было лет пятнадцать назад, уже самостоятельно сидел, правда – пока еще крайним справа и опершись на чужое колено, чтоб попасть в поле объектива. На каждую личность приходилось не более квадратного сантиметра, но Поля отлично разглядела отца; ей даже почудилось, без особой, впрочем, уверенности, что однажды и не так давно она не только встречалась, но и беседовала с ним, однако самых обстоятельств припомнить уже не могла.
То был некрупного роста, сухощавый человек с бородкой, отпущенной по старым традициям лесного ведомства, с большими взлохмаченными бровями, круто приподнятыми вспышкой какого-то внезапного осенения; косой пробор с оторвавшейся на лоб прядью придавал ему внешность мастерового полуинтеллигентной специальности. Он ничем не походил на того, ненавистного ей, ожиревшего в довольстве, Вихрова.
– Теперь-то похуже он стал, мой Иваша, обносился… не король. Годы-то туды идут, милая, а не сюды!
Поля помолчала.
– Скажите, он носил когда-нибудь очки… золотые?
– Никогда. У нас, у Вихровых, все и без стекла глазастые, а к чему тебе?
– Так, воспоминание одно… Это он сам рамочку выпиливал? – отходя, спросила Поля.
Таиска правильно поняла, что ее вопрос выражал лишь степень ее замешательства. Нет, рамочку мастерил сынок Ивана Матвеича, Сережа, появившийся в их семье вскоре после Леночкина отъезда. По отзывам горбатенькой, это был славный паренек, одногодок Поле; он и занимал теперь угловую, бывшую детскую Вихровых.
Вот так же весной бывает на речной пойме, когда после спада вешних вод клочками проступают в разливе знакомые полуобсохшие островки. Постепенно, по каким-то ускользающим признакам, Поля узнавала отцовскую квартиру. Одну из полок сверху донизу занимала коллекция разнопородных, с продольными и торцовыми шлифами древесных брусков, вначале принятая Полей тоже за книги. В сущности, то и были книги о почвах и климатах земли, только очень емкие и лишь ученому доступные для прочтения. И как полтора часа назад паровозный гудок, теперь запах сухой древесины повел Полю назад, в детство. Обострившимся зрением она глядела сквозь холщовую, свисавшую до полу карту советских лесов и видела за ней, без красок, как во сне, другую комнату, потемней и поменьше… и там, на чем-то пушистей травы, она сама воздвигает башенки из деревянных кирпичиков.
– Здесь дверь должна находиться, за картой… можно мне туда? – с внезапным речевым затруднением спросила Поля.
– И верно, угадала, быстроглазая ты моя, – обрадовалась Таиска. – В твою-то пору там спаленка ихняя помещалася, родителей твоих… нынче ее садоводу Дидякину отдали с семейством. Ничего, человек бесшумный, непьющий – вроде Ивана, покладистый. – Она размашисто оправила платок и вздохнула. – Раздумаешься этак-то… жить бы им вместе годков тыщу, пока очей в одночасье не закроют, а вишь как обернулося!
Следовало ждать, что сейчас тетка приподымет последний пласт памяти и покажет родительскую тайну, пахнущую запретным тленом. Поле стало тошно и жутко, она потянулась за шляпкой. Напрасно уговаривала ее Таиска посидеть до отца, посмотреть забытые Леночкины вещи, заботливо сбереженные ею для законной наследницы. Вниз по лестнице спускалась через ступеньку; запыхавшаяся Таиска догнала племянницу на улице, чтобы отдать забытые свертки.
– Ты уж навести нас еще хоть разок, девонька, – просительно шепнула она напоследок. – То-то праздник ему будет, старику!
– Непременно, вот устроюсь немножко и прибегу… – кивала Поля с решимостью не возвращаться на это место никогда.
4
Домой Поля отправилась пешком, чтобы выветрить из себя жестокую путаницу чувств и догадок; на полдороге ее, обессилевшую, подхватило метро. Потом она шла по той же улице Веселых, как она мысленно окрестила ее в еще не написанном письме к матери, но теперь люди ей попадались только пожилые, озабоченные, с глазами, устремленными в себя. Поля так устала, что на обследованье факира вовсе не оставалось ни охоты, ни сил.
Варе она ни словом не обмолвилась про свое путешествие в детство, – просто ей захотелось совершить кое-какие последние шалости, еще допустимые сегодня и уже предосудительные завтра.
После обеда занялись разбором Полиных покупок, и Варя лишь головой покачивала на причуды младшей сестренки, всего на полдня оставленной без присмотра.
– Мне просто плакать хочется, глядя на тебя, Полька! Среди лета варежки зачем-то приобрела… ну ладно, зимой их может и не оказаться в продаже. Я даже согласна простить тебе эти детские кастрюльки, – они… приятные. Но куда тебе столько мыла? И потом… ты что, миллионерша, самое дорогое покупать?
– Мне, знаешь, оно так по цвету понравилось! – подкупающе улыбнулась Поля. – Посмотри, какая чудесная гамма получается…
– Отказываюсь понимать. А ландышевые капли… разве ты больна?
– Видишь ли… У них такое красивое названье!
– Пора тебе за ум взяться, Поля… Как-никак ты уже наполовину студентка, – рассудительно выговаривала Варя. – Ну, подумай, кто порешится такому легкомысленному существу поручать стройку жилого дома! Теперь объясни по крайней мере, как ты намерена применить в своей будущей деятельности купленный тобою словарь итальянского языка?
– Ну, знаешь ли! – не на шутку вспылила Поля— Жизнь широка, и никому пока не известно, что ему пригодится впоследствии. Да ты сама-то можешь предвидеть, что тебе самой потребуется через полгода? А вдруг меня пошлют, скажем, во Флоренцию, для изучения архитектуры… что я буду делать там без языка?
О, разумеется, все это можно было достать и у себя, в лошкаревском кооперативе, но там у товаров не было оттенков московской новизны, и все они слегка припахивали сыромятной кожей либо керосинцем.
– Кстати, телеграмм мне не было? – с деланным равнодушием спросила Поля.
Их оказалось шесть, и в одной, кроме Павла Арефьича, расписались все ближайшие соседи со псом Балуем в самом конце, две – от подруг, четвертая – своя; от мамы имелась отдельная. Шестая, самая сдержанная, всего в три слова, пришла из Казани, и, судя по цифрам в уголке, отправлена она была в тот же час, когда и Поля стояла у телеграфного окошка. Все поздравляли ее со вступлением в совершеннолетие, и Поля зажмурилась от счастья: отлично жить на свете, когда ты в нем не одна. И как смешно, что мамочка перед отъездом пугала ее ужасами столичного существованья…
– Дуется несчастный Родиошка, всего на три слова расщедрился!.. На всякий случай я ему все же напомнила телеграммой про день рождения, чтоб не забывался. Неизвестно, как там дальше сложится, но пока парадом командую я… – И, обхватив подружку, Поля закружилась с нею, насколько это было возможно в тесном проходе между кроватью и столом.
То был неповторимый вечер, каждая подробность его представлялась впоследствии клочком драгоценного сновидения. А так как нельзя в такой праздник обойтись без гостей, Варя постучала соседке, и попозже, уложив внучку, та зашла поздравить Полю с новосельем.
Втроем, не зажигая света, они пили чай с вареньем, черешней, засахаренными орехами и, когда было обсуждено все, от покроя новых платьев до событий в Западной Европе, сидели молча, глядя на Полин букет, подсвеченный отблесками закатных облаков.
Наталья Сергеевна ушла поздно; перед сном Варя поделилась вполголоса скудными сведениями о своей соседке. Жильцы дома в обиходе между собою звали ее дамой треф: седые волосы, валиком уложенные на голове, оставляли впечатление короны. Она и ее внучка были единственные, уцелевшие из когда-то обширной семейной колоды. Догадывались, что она не легко расплатилась за легкость прежней жизни, но никто не слышал от нее жалоб, даже когда месяца два назад в уличной катастрофе погибла ее дочь, секретарь в одном лесонаучном учреждении; по слухам, бабушке с Зоенькой предстояло выселенье из ведомственного дома… В общем, Варя почти ничего о ней не знала.
– Наверно, она была красива в молодости, – вслух подумала Поля уже в кровати.
– Да… – откликнулась Варя, глядя в синюю пропасть за балконной дверью. – Кстати… мне писали, что Коля Бобрынин женился. Это правда?
– Еще прошлой осенью! Ему давно нравилась Нина Цыпленкова. И занятно… года два назад мы играли в желанья, и он написал мне в записке, что хотел бы иметь сердце из нержавеющей стали, хвастун! А на поверку бросил ученье, комсомол и в церкви с Нинкой венчался. Да еще Родиона в шафера приглашал… ты понимаешь, наглость какая?!
– Ну, видишь ли, всякое случается с людьми, – откликнулась Варя и зевнула, и Поля поняла, что это фальшивый зевок. – Завтра много дел, давай спать.
Они еще долго лежали без сна и молчали, каждая о своем. За балконом пошелестел теплый ночной дождик. Перед Полей плыли потускневшие лица и события дня. Видения распадались тотчас по возникновении, и дольше всех держался в памяти паренек с вокзала. О, повторись ее приезд еще раз, теперь она проучила бы чумазого цыганенка за непрошеное покровительство! Она прогнала его, и на смену тотчас пришел Родион. Украдкой они поднялись на чердачишко, и потом он стал читать ей новые стихи, написанные уже после Полиного отъезда, чуть нараспев и прислушиваясь в паузах, не идет ли кто, потому что свою прикосновенность к поэзии считал слабостью, недостойной не только математика, но и любой мыслящей личности.
… В эту ночь немецкие самолеты сбросили первые бомбы на спящие советские города.
Глава вторая
1
Профессор вернулся часом позже Полиного ухода, и сестра до ночи не решалась сообщить ему о посещении дочки. Цель своей незадавшейся жизни Таиска полагала в заботах о брате и в охранении его от всяких, как она называла, уязвительных огорчений. К брату Ивану она пришла однажды после пятнадцати лет разлуки, в бытность его пашутинским лесничим, пришла просить лесу на починку их завалившейся избицы в Красновершье, но задержалась до ночи за пришивкой пуговиц к одежде холостяка, да так и прижилась навечно. Собственно, они были сводные, от разных матерей, так что вовсе не сознание родства или своей бездомности заставило ее впоследствии тащиться вслед за братом в столицу.
По безответной легкости характера, по исполнительности, по отсутствию сторонних привязанностей она везде пришлась бы ко двору, а с физическим несчастием своим, случившимся еще в младенческую пору, давно свыклась, как другие свыкаются с богатством и красотой К тому же она не шибко разбиралась в вихровских идеях насчет сохранения лесов, а просто пожалела его сперва, хромого и одинокого, а потом поверила в святость его дела, потому что не гнался, как другие, ни за быстрой славой, ни за личной корыстью. Они так сжились, в особенности после побега Леночки, что понимали друг друга с полуслова, и оттого в доме стояло постоянное безмолвие, столь удобное для писания всяких ученых сочинений. Обычно на исходе вечера Таиска заходила к брату условиться про завтрашний обед и обсудить события дня, а когда счастливо обходилось без событий, то отсиживали положенный срок в полном молчании, как делали это в старину енежские мужики на избяных завалинках, с потухшими трубочками, перед сном. Усыновление Сережи не изменило заведенного распорядка, и, пожалуй, именно эти вечера сплавили их, троих, таких разных, в дружную и прочную семью.
В тот раз Сережа задержался на работе, и на вечернюю посидку Таиска зашла одна. Ночные бабочки кружились вкруг настольной лампы, а сам Иван Матвеич, уже без пиджака, глядел в открытое окно на свой искусственный лесок, откуда влажная, как от реки, тянулась прохладка.
– Ладно уж, докладывай, что там у тебя приключилось, – сказал он через минуту, не оборачиваясь.
Никаких особых новостей у Таиски не оказалось, кроме одной, а именно, что в полдень забегал Грацианский, расспрашивал, куда и зачем укатил хозяин, причем, всегда такой скользкий, с холодящим смешком, он показался ей в тот раз озабоченным, как бы невыспавшимся, и обычного жальца не показывал, а, напротив, посильно старался утешить старуху в ее недобрых предчувствиях. Действительно, визит его носил на себе некоторый оттенок чрезвычайности. Как часто бывает к старости, человек этот давно перестал быть вихровским другом, хотя и продолжал числиться среди его старых товарищей. Они вместе в 1908-м поступали в Лесной институт, и, если бы не двухлетняя административная высылка Вихрова из Петербурга, в 1911-м, вследствие чего и завершил образование лишь в самый канун первой мировой войны, они в один и тот же год вышли бы на служение русскому лесу. Однако эта вынужденная и в конце концов несущественная разница придавала Грацианскому видимость старшинства, навсегда удержавшуюся в их отношениях.
Собственно, судя по тематике их дипломных работ, в дальнейшем исключалась всякая возможность соперничества, однако их практическая деятельность протекала в тесном – не то чтобы соревновании, но в крайне обостренном, временами даже бурном, соприкосновении, что представлялось окружающим вполне естественным при полном несовпадении их научных воззрений. В этой знаменитой полемике Вихров занимал пассивную позицию, не имея склонности ввязываться в публичный поединок с сильнейшим противником, однако было бы преждевременным считать вихровское поведение признаком слабости, высокомерным пренебрежением к указаниям, так сказать, старшего товарища или же добровольным признанием совершенных ошибок.
Никто не помнил, с чего началась эта поучительная, оставшаяся не освещенной для широких советских кругов, распря Вихрова с Грацианским, но с годами лесная общественность как-то привыкла ждать после каждой крупной работы первого не менее основательной по силе удара, даже с преимуществом безнаказанной страстности, статьи второго, настолько привыкла, что обычно рецензии на очередную книгу Ивана Матвеича не появлялись в специальной прессе, пока не высказался о ней сам Александр Яковлевич; в шутливых кулуарных разговорах это так и называлось наколоть из Ивана щепы. У любителей изящной словесности, несведущих в скучных вопросах лесоустройства, статьи эти, неуязвимые по силе формулировок, блистательные по стилю, вызывали похвальные сравнения с речами Жореса, памфлетами Марата и, как-то раз в одном иностранном журнальчике, – даже с филиппиками Цицерона против Катилины, после чего, к чести самого Александра Яковлевича, он целую неделю озирался и выглядел не только сконфуженным, но даже как бы смоченным чем-то неподходящим. Старые лесники помалкивали, чтоб самим не попасть под лупу обстоятельного разбора, но некоторые утверждали доверительно, что маленькие, порой всего на страничку, ругательные шедевры Грацианского не составляют вклада в большую науку. И действительно, как по соображениям доходчивости до читателя, так и секретности, профессор Грацианский обычно не приводил в своих статьях ни цифр, ни личных позитивных предложений; их подкупающая скромность в этом смысле даже слишком как-то бросалась в глаза. Но пускай и маловато в них было о самом лесе, пускай временами они лишь усиливали и без того запутанную лесную неразбериху, как о том шептались в закоулках вихровские единомышленники, раскрывая свою нетерпимость к обстоятельной критике, зато Грацианский всякий раз обнаруживал всестороннюю, к сожалению – кроме самого леса, эрудицию, разящий сарказм, а в последние годы и великодушную недоговоренность об истинных причинах вихровских заблуждений. Словом, из всех снисходительно-умеренных критиков Вихрова это был наиболее грозный, деятельный, осведомленный в мелочах вихровской подноготной и до такой степени удачливый, что за последнюю четверть века репутация Ивана Матвеича не просыхала ни на сутки. Перечисленные обстоятельства не мешали им встречаться, чаще всего на служебных заседаниях, и по праву студенческой близости сразиться иной раз на злободневные темки отечественного лесоустройства. В подобных случаях Грацианский проявлял к бывшему приятелю какую-го просветленную, даже братскую терпимость, сопровождаемую двусмысленно печальными вздохами, – дескать, мы-то понимаем с тобой, брат, напрасность взаимных огорчений, но что поделаешь: эпоха! И почему-то глаза у Грацианского раздваивались при этом, так что один проникновенно и, можно сказать, вполне перпендикулярно уставлялся в переносицу собеседника, другой же отъезжал в сторону и чуть поверх плеча, куда-то в не доступный никому тайничок… И все намекал на необходимость встретиться как-нибудь за бутылкой кисленького, однако к себе не приглашал, а собирался сам нагрянуть к Вихрову, чтобы уж разом обсудить скопившиеся мировые проблемы и, между прочим, вспомнить ту благословенную пору, когда вместе из одного котелка хлебали фасольную похлебку в одной греческой кухмистерской на Караванной. Истины ради стоит отметить, что, происходя из обеспеченной семьи профессора Санкт-Петербургской духовной академии, Александр Яковлевич никогда в кухмистерских не питался, да и помянутый грек подавал пищу исключительно на фаянсовых тарелках, но так выходило складней, нарядней для слушателя, а Иван Матвеич, к стыду его и невзирая на вскипавшее в нем глухое бешенство, ни разу не опровергал этого романтического, довольно частого у людей на склоне лет округления действительности.
Как бы то ни было, у Грацианского имелся незаурядный ораторский талант в сочетании с коварным умом и твердой, дробящей препятствия волей, впрочем – не всегда в согласии с вечно юным мятущимся сердцем. Именно он, Саша Грацианский, единственный из старых друзей, включая Чередилова и Валерия Крайнова, пребывавшего, впрочем, в частых отъездах, предлагал Вихрову деньги после его крупнейшей творческой неудачи в 1936 году, причем в довольно значительной сумме и как будто даже без отдачи… Эпизод этот, подкупавший проявленным в нем участием в судьбе поскользнувшегося товарища, заставил Вихрова призадуматься о противоречивом характере своего противника, полном неврастенических бросков то в непоказанную ему лесную науку, то в историю русского революционного движения, то, наконец, в политэкономию… он в ней и застрял без каких-либо заметных достижений, если не считать томика помянутых статеек по такому ничтожному поводу, в масштабе его дарований, как вихровская особа.

