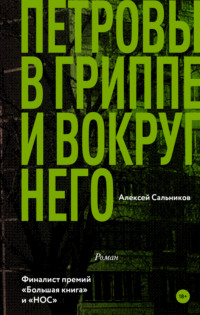
Петровы в гриппе и вокруг него
– Мы, ребята, – заговорил Виктор Михайлович, – привязаны к материи. Что бы ни говорили, но даже информация полностью материальна и не свободна от оков материи. Взять ту же книгу. Фотоны отскакивают от ее страниц и влияют на нейроны мозга определенным образом. Учитель колеблет среду, в которой находится, с помощью голосовых связок и воздействует на нейроны учеников через барабанные перепонки. Другое дело, что та же книга, без всякого бензина и электричества, просто лежа на столе, имеет почти неисчерпаемый ресурс информативности. Из нее могут черпать знание поколение за поколением, пока книга не рассыплется. Сказанное слово может размножаться в человеческой среде как живое, по сути дела слово – это как квант света, имеет сразу несколько сущностей, только свет может иметь корпускулярную и волновую сущность одновременно, а та же мысль – и связка конкретных молекул в нейронах, а когда ты произносишь свою мысль вслух – это вполне конкретное, измеряемое колебание воздушной среды, мысль, выраженная на бумаге, вообще какая-то невообразимая связка механизма распознавания образов, самих образов и непрерывного пинг-понга фотонов между механизмом распознавания образов и самими образами. Вообще интересно, ведь на квантовом уровне, грубо говоря, голова не отличается от жопы, среда, в которой мы существуем, не отличается от нас самих, воздух, который мы вдыхаем, еда, которую мы едим, становится нами, где эта граница между нами и средой? Почему мы, по сути дела, абстрактное облако элементарных частиц, можем передвигать облако элементарных частиц, которое является нами, и не можем, допустим, двигать горы таким же образом? То есть понятно, что с помощью инструментов можем двигать и горы, но почему не можем наделить ту же гору своей волей и не сдвинуть ее? Ведь никакой границы не существует.
– Слушай у тебя тут курить можно или все еще нельзя? – перебил Игорь и тем самым озвучил мысль, давно беспокоившую Петрова.
– Нельзя, – категорично заявил Виктор Михайлович, – провоняете тут всё.
– Да ладно тебе, – сказал Игорь, – ну проветрится же через день буквально.
– На улицу идите, – приказал Виктор Михайлович, – но окурки в огород не бросать. К соседям бросайте, к собаке этой.
Игорь и Петров повторили процесс одевания в обратном порядке и спустились на улицу. Виктор Михайлович явно преувеличивал шум, который издавала соседская собака, потому что опять, кроме ветра в рейках палисадника, ничего слышно не было. Сам Виктор Михайлович, несмотря на свою демонстративную нелюбовь к курению, вскоре сам вылез на крыльцо и стал с легким презрением наблюдать за курящими гостями. У самого него в руке была бутылка, и из нее он изредка делал небольшие глотки, как будто пробовал.
Выкурив по одной сигарете, они решили выкурить еще несколько – про запас. Петров, заметно нагревшийся внутри дома и внутри себя за то время, что они сидели на кухне, а Виктор Михайлович то включал огонь под чайником, то выключал (и непонятно зачем, ни кофе, ни чая никто не предлагал), с удовольствием вдыхал кажущийся прохладным воздух всей грудью, только иногда воздух как будто попадал не в то горло и Петров заходился кашлем.
– Бросай курить, – сказал Виктор Михайлович во время одного из таких приступов кашля.
– Что-то не слышно твоей собаки знаменитой, – заметил Игорь то, что Петров заметил сразу.
Вместо того чтобы рассказать про собаку, Виктор Михайлович, как будто озаренный видом Игоря в накинутом на плечи пальто и черном костюме, кинулся в пучину внутренней политики.
– Вообще, все это не нужно, – сказал Виктор Михайлович, тыча пальцем в темно-серый галстук Игоря. – Система выборов давно себя дискредитировала. Ничто не может гарантировать, что человек, которого изберут, будет делать, что обещал. Надо по-другому. Нужна лотерея. Случайный выбор из граждан. Все равно нет гарантии, что человека выбрали не потому, что у него пиарщики хорошо поработали. Получается, что выбирают не тех, кто может управлять страной, а тех, кто хочет ей управлять. А это две большие разницы. По сути дела, правление возведено в абсолют, все крутится вокруг этого правления. С появлением лотереи не будет смысла контролировать СМИ, покупать голоса, копать компромат, вся эта лабуда. А голосование перенести на конец правления, если президент устроил – пускай отправляется на пенсию, если не устроил – пускай отправляется на нары. Хотя нары – это, конечно, перебор, но какая-то ответственность нужна. Сделать президентское правление как священный долг защиты родины, чтобы человек со школы знал, что может попасть на президентское кресло.
– А с парламентом что делать, откуда его брать? – спросил Игорь. – Нужно или всю систему под эту лотерею менять, или не знаю что.
– Там тоже можно что-нибудь придумать, – сказал Виктор Михайлович, – тоже какую-нибудь ответственность, чтобы все это отпуском не казалось.
Игорь и Виктор Михайлович заспорили, Игорь – несколько насмешливо и с высоты неизвестного своего положения, а Виктор Михайлович – с горячностью подростка, выпучивая свои и без того немаленькие глазищи, срываясь во вскрикивания на высокой ноте. А Петров, глядя на многочисленный снег вокруг себя, на пятиэтажный дом через дорогу, вспомнил вдруг, как на елке в раннем детстве женщина или девушка, изображавшая Снегурочку, взяла его за руку, а рука у нее была совершенно ледяная, и маленький Петров подумал: «Настоящая». Пока спор со стороны Виктора Михайловича становился все жарче, жарче становилось и Петрову, но это был уже такой жар, какой с трудом балансирует на грани озноба, словно та Снегурочка из детства сунула свою руку не в ладонь Петрову, а за шиворот, или даже не за шиворот сунула, а пролезла рукой под рубашку со стороны живота и коснулась ребер. Еще Петров решил тогда, что Снегурочка настоящая не только из-за ее холодной руки, а еще и потому, что лицо у нее, когда он на нее посмотрел, было очень белое. Сейчас-то Петров понимал, что это был всего лишь грим, но тогда, в детстве, эта бледность Петрова очень впечатлила.
– Да? А исходить из того, что большинство не может ошибаться, – не утопия? Нынешний институт демократии основан на том, что среднее арифметическое – истина, а это не так. Нынешний институт демократии совершенно так же верит в некоего сферического избирателя в вакууме, – крикнул Виктор Михайлович отчаянно. – А взять мою сестру. Это же ужас, а не избиратель – это совершенно безумный человек. Она залетела, ее у нас в Невьянске старушки гнобили, мать парализовало после пьянки, потом мать умерла, и все это – пока я в армии был, она в это время заочку умудрилась закончить, можешь себе представить, в атмосфере этого гнобления, этой парализованной матери, этого ребенка, пеленок этих, всяких его болячек. И вот она сваливает в Австралию в разгар перестройки, вместе с сыном, я даже сам до сих пор не понимаю как, и теперь мы пишемся по электронной почте, она утверждает, что Австралия – это континент-Невьянск, то есть там сплошь Невьянск, и топит за родные березки. На этого человека, по-твоему, нужно ориентироваться, да она сама не знает, где завтра будет. Да и где оно, это большинство? Все поголовно ходят на выборы? Нет, не ходят! Нынешний механизм выборов – это просто иллюзия сопричастности к жизни в стране, и при этом многие даже в этой иллюзии не хотят участвовать. Один хрен на выборы ходит только часть населения, из этой части только часть голосует за определенного кандидата, так где тут большинство? Произрастание власти из иллюзорных элит – это не иллюзия? Сакрализация власти – это не один большой фокус? Возводить перераспределение доходов государства в область божественного знания – ну это вообще за гранью. Что есть тот же парламент? Дискуссионная площадка из выбранных в разных областях людей, которых в идеале заботит благополучие их региона. Ну, так это в идеале заботит, а на самом деле, как правило, их заботит лоббирование какой-нибудь ерунды, борьба за нравственность и популизм. Нужно не региональное деление, а статистический срез определенных слоев населения, эту парашу вообще давно пора реформировать до неузнаваемости, иначе бог знает, до чего мы дойдем.
С этим монологом Виктора Михайловича они снова перетекли в дом, снова был наполнен водой ненужный чайник и зажжен под чайником ненужный огонь, сами же хозяин и гости приняли по паре рюмок.
– Но это, конечно же, совершенно пустой разговор, – заключил Виктор Михайлович устало. – Нужна опять революция, как в семнадцатом году, а этого как-то не хочется. Хотя немного все же хочется, в глубине души тянет посмотреть, как все это накроется медным тазом.
Петров сходил в ванную, чтобы остудить голову под струей холодной воды, причем от этого жар только подступил к лицу, тогда он попросил выключить огонь под чайником, а когда и это не помогло, спросил, нет ли в доме аспирина или парацетамола. У Виктора Михайловича не было парацетамола, а был только аспирин, от целой упаковки Виктор Михайлович оторвал Петрову бумажку с двумя таблетками, Петров, в свою очередь, оторвал от уже оторванного, выдавил таблетку наружу и снова сходил в ванную, чтобы запить ее, – на кухне при всех пить таблетку показалось Петрову неприличным. Оставшийся нераспакованный уголок с аспирином Петров сунул в карман. Когда он снова приплелся на кухню, огонь опять горел под чайником, Виктор Михайлович разливал очередную водку по стопкам, а Игорь, щурясь, изучал упаковку аспирина, оставшуюся после дележа, так сказать, материнскую упаковку. Петрову показалось, что аспирин в его кармане, а особенно аспирин в его желудке зашевелились, пытаясь вернуться к своим.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов