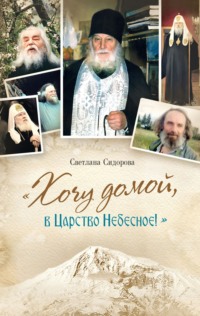
«Хочу домой, в Царство Небесное!»
– Нет, нечего тут даже говорить, я уже решил, – махнул рукой руководитель, – а с водой мы что-нибудь придумаем!
А что можно было придумать? Оставалось только одно: брать воду из арыка, отстаивать ее, а потом кипятить.
Мы не сразу решились на это, но, пропустив обед, к вечеру уже заваривали чай, приготовив любимые бутерброды с баклажанной икрой и повидласи.
– Ну и ладно, – утешали мы друг друга, – сколько же можно над нами издеваться?
Прошло три дня после того, как мы расстались с водителем. Все были на раскопе, дежурный пошел куда-то, художник сидел в саду и зарисовывал найденные браслеты и черепки кувшинов, а я, как обычно, «грелась» возле костра. Вдруг вижу: кто-то по кустам пробирается. Пригляделась – а это наш водитель, он сначала долго не решался выйти, а потом все-таки двинулся ко мне. Идет решительно, а на нем только майка, которую он усиленно тянет вниз.
– Я сейчас все объясню! – говорит он.
А я кричу ему:
– Не подходи, не подходи ко мне, никаких объяснений мне не надо, начальнику объясняй!
Ему ничего не оставалось делать, как опять шагнуть в кусты и где-то там залечь. Оказывается, он все эти дни жил на вокзале, пока не закончились деньги. А потом те, с кем он пил, сняли с него, пока он спал, все, вплоть до трусов.
– А трусы-то зачем? – спрашиваем.
– Наверное, посмеяться хотели, – предположил он, – хорошо, что хоть майку оставили, а то как бы я шел?
Мы жили в колхозном саду и спали под отяжелевшими от спелых плодов ветками. К концу вечернего чая никто уже не мог усидеть за столом из-за полчища комаров, и перед тем, как лечь спать, мы сооружали полог из марли для защиты от них и надевали на себя все теплые вещи, какие у нас только были, а потом засыпали, мокрые от пота. А если на ночь не укутаться как следует, то обязательно проснешься часа в два от жуткого холода, пробирающего до костей. И тогда уж не уснуть, а мне надо было вставать раньше всех, чтобы успеть разжечь костер и заварить чай.
Впечатления от приготовлений ко сну складывались в строчки:
Сад клином лег в звенящей тишине.Круг фонаря, как пес, к ногам прижался,И звезды осыпались на лицо сквозь сетку веток.Тугой зеленоватый свет из пленаДеревьев черных и немых вверх рвалсяИ замирал над ними ореолом…И были слезы продолженьем звезд,И были сны пустой глазницей неба…Ленинградцам, которые приехали после нас, повезло значительно больше: они отрыли какие-то ценные фрагменты скульптур, но они и пострадали больше нас. Многие заболели желтухой: пить воду из арыка было все-таки опасно.
Да и поездку в Крым едва ли можно было назвать отдыхом. Какой же это отдых, если с утра до позднего вечера мне приходилось, сдерживая дыхание, чтобы как можно меньше наглотаться пыли, бегать по этажам будущей гостиницы для военных под названием «Новая»? Ее наши рабочие строили неподалеку от Ялты, а я представляла плановый отдел московской строительной организации, в которой тогда работала, и мне приходилось каждые три месяца ездить в командировку.
Один раз и муж захотел со мной поехать. И пока я носилась с процентовками, договаривалась с генподрядчиками, составляла расценки и проверяла выполненные работы, он сидел за столом и переводил с древнегреческого. Только рано утром и поздно вечером мы могли позволить себе выйти к морю, чтобы немного поплавать и посидеть на берегу: там были необыкновенно красивые камни.
Долго потом жители поселка вспоминали день нашего приезда, когда мы ходили по домам с огромным тяжеленным чемоданом, набитым книгами, в поисках комнаты со столом наподобие письменного и чтобы непременно настольная лампа была…
Но все эти путешествия были из той, нашей прежней жизни, от которой, где бы мы ни находились, что бы ни делали, не могли получить удовлетворение. Тогда это было свойственно многим.
Потому и привозились отовсюду стихи, похожие на эти:
Зайдя на сорок пятый круг,Дрожит состав решеткой окон.Ползет червяк, отбросив коконВокзала, весел и упруг…В который раз себе совру,Что зной смывает суетливость…В который раз созреют сливыИ упадут сгнивать в траву…Но путешествие в Петрозаводск было совершенно не похоже на прежние: мы впервые ехали не самовольно, а по благословению.
«Главное, чтобы муж в последнюю минуту не отказался», – с тревогой думала я. Но он-то как раз и собрался, и даже билеты купил, а вот я где-то прихватила простуду и все боялась, что муж, узнав об этом, сдаст билеты, поэтому и скрывала свою болезнь.
Мне это, надо сказать, удалось, и мы благополучно доехали до Петрозаводска, где никогда раньше не были. Но город нам увидеть так и не пришлось, запомнился один только вокзал: мы бегали по нему в поисках автобуса на Кондопогу, куда нам нужно было попасть. Автобус отправлялся через час, и пока мы его ждали, зашли в привокзальный магазин, чтобы докупить на всякий случай еще какой-нибудь еды, хотя нам она была не особенно нужна: мы продукты из Москвы везли, но муж решил, что лишняя пачка вермишели и десяток яиц все же не помешают. И еще муж купил небольшую плоскую бутылку коньяка.
– На всякий случай, вдруг замерзать будем? – сказал он.
А в промтоварном отделе я увидела кружевной белоснежный чепчик: дочке моей подруги Людочки пятый месяц пошел. И погремушку красивую выбрала, она мне очень понравилась.
Потом подошел наш автобус, и мы поехали в Кондопогу. По дороге стали расспрашивать пассажиров о деревне, до которой нам надо было добраться, но о ней никто не знал; одна женщина, слава Богу, нашлась.
– Вам надо, – сказала она, – по Онежскому озеру идти, напрямую тут недалеко, километров пять всего, не больше. Там, на правом берегу, и увидите.
Когда мы добрались до места, начало уже темнеть – ничего удивительного: еще январь не закончился. Вышли из автобуса, думаем, сейчас у нее спросим, в какую сторону идти, а может, еще кто-нибудь знает. Но все как-то сразу разошлись в разные стороны, и на остановке никого не осталось. Можно было, конечно, в гостинице переночевать, но где ее, эту гостиницу, искать? И спросить не у кого. Нам ничего не оставалось, как пойти к озеру.
– Женщина говорила, что по правую сторону наша деревня; значит, туда надо, – рассуждает муж.
«Если трудно будет, Матери Божией молитесь», – вспоминаю я Батюшкины слова. Стали мы молиться и вдруг увидели глубокие следы от валенок: кто-то, судя по всему, недавно здесь прошел.
– Пойдем по этому следу, – решает муж.
И мы пошли. Муж впереди, стараясь в проложенный след попадать, а я за ним, тоже стараюсь, но у меня это намного хуже получается. Озеро довольно широкое, а снегу на него намело – по колено иногда проваливались. Скоро стало совсем темно, только снег белеет, и противоположный берег темной полосой прочерчен, а есть ли там какие деревни, неизвестно. Огоньков, по крайней мере, не видно. В темноте все скрывается – снежная пустыня, и кроме нее – ничего. Голова у меня тяжелая, видно, температура поднялась. Вытащу ногу из снега – все, думаю, не могу больше идти, а потом тут же утешительная мысль: «Но ведь человек же шел, значит, и я смогу!»
Передо мной монотонно рюкзак мужа покачивается: бульк-звяк, бульк-звяк, – плюхается в нем коньяк и позванивает погремушка. Мои вещи уже давно к мужу перекочевали, он их вместе со своими на себя взвалил.
Идем, ничего не видно, но, главное, туда идем или нет – непонятно. Одно время потеряли следы. Муж велел мне стоять на месте, а сам пошел их искать.
– Иди сюда, – кричит, – вот они! А я тут на полынью наткнулся. Надо осторожнее идти, нельзя от следа уходить.
Идем уже часа три, и неизвестно, дойдем ли. А вдруг не туда идем? Ну и что, что следы?
Того, кто оставил их, сейчас встретит какая-нибудь лошадка и увезет километров за двадцать, а нам куда?
– Ничего, – подбадривает меня муж, – если что, приткнемся где-нибудь около кустиков, костерчик разведем, погреемся: вон сколько здесь кустов. И коньяк у нас есть, так что не замерзнем. Ты только молись Матери Божией, как Батюшка сказал.
И тут мы заметили маленький огонек на противоположном берегу, слабенький, но живой, один, среди глухой темноты.
– Надо туда идти! – говорит муж.
Конечно, надо, тем более что и следы туда ведут. Пошли мы на огонек. Вот, думаем, кажется, сейчас дойдем, но почему-то он никак не приближается.
– Смотри: берег! – кричу я мужу.
Но оказалось, что это вовсе не берег, а остров, на который мы неожиданно наткнулись. А где же берег? Одна только снежная пустыня и никакой деревни.
Тяжелее всего, как обычно, последние метры давались.
– Знаешь, – говорит муж, оглядываясь на меня, – о ком я сейчас вспомнил? О твоем дяде, как он по полю к трактору шел, помнишь?
Еще бы мне не помнить! Дядя не хотел об этом рассказывать, да его жена уговорила.
Дядя был старшим братом моей мамы. В их семье девять детей было, мама – самая младшая, а брат, Иван, года на два постарше. Я очень любила, когда мама мне о своем детстве рассказывала. Как они с горки катались, как валенки по очереди надевали, как с дядей Ваней помидоры собирали, каждый раз надеясь, что с ними что-нибудь случится – град побьет или еще что. Но наутро поле вновь краснело тяжелыми глянцевыми помидорами, поджидая тех, кто будет безжалостно отрывать их от родного куста и тащить к телеге, которая потом, кряхтя и постанывая, отправится на базар.
Дядя у меня был легендарный. Он окончил биологический факультет и во время Великой Отечественной войны работал в военном госпитале вместе с владыкой Лукой Войно-Ясенецким, и все вспоминал, какой владыка был внимательный человек, никогда один не сядет чай пить, всегда ему предлагал.
Дядя с тетей были уже старенькие, и мне захотелось их проведать, вот я и поехала к ним на Украину.
– Расскажи-расскажи, – настаивала жена, – ей интересно будет.
Пришлось дяде рассказывать, как он ездил к своему младшему внуку на свадьбу в Донецкую область. Положила ему жена в рюкзак всяких гостинцев: соленья, тушеное мясо (чего только у них не было!). Он мешок за спину и отправился в путь: договорились, что на вокзале его зять встретит. Дядя как выдал дочь замуж, так ни разу у них не был: дети и внуки каждый год навещали, а он не любил никуда из дома выезжать. Поезд пришел к вечеру. Была уже глухая осень, и темнело рано. Вышел он из вагона, а на перроне – никого: ни приезжих, ни провожающих. Стоит один со своим мешком, а куда идти, неизвестно. Адрес-то у него был, но вот кто бы сказал, в какую сторону податься! Поплутал он около вокзала и к полю вышел. Видит, вдалеке огонек горит. «Пойду, – думает на него, – может, что и узнаю». И пошел по полю, а поле раскисшее, ноги скользят, увязая в холодной липкой жиже. «Иду, – говорит дядя, – и думаю: диточки ж вы мои, диточки, хиба ж вы нэ бачытэ, як ваш папочка мучится?»
Наконец добрел до трактора: это его огонек дядю манил, а в тракторе – тракторист, он и указал нужное направление. И потом еще Господь помог – попутная машина немного подвезла.
Заходит дядя в дом и видит: за столом, залитым ярким светом, сидит его зять с каким-то мужчиной. Оба распаренные после баньки, в белых маечках, а на столе скворчит сковородка со свиными отбивными: они утром поросенка к свадьбе зарезали. В руках у обоих перемигиваются веселыми искорками хрустальные рюмочки: только что собрались отметить удачный день, да так и застыли с рюмочками при виде дяди.
– Папа, – оторопел зять, – папа, ты? Ой, а мы и забыли совсем, что тебя сегодня надо встречать. Как же ты добрался? А?
Папа молча скинул свой мешок – и за дверь. Зять бросился за ним, но я так и не поняла, вернул он дядю или нет.
– Да, – говорю я мужу, – очень похожая история: мы так же на огонек спешим.
И тут, когда мне показалось, что я уже не смогу больше вытаскивать ноги из сугробов, мы вдруг ускорили шаг и вышли на берег. Подошли к избушке, стали стучать, а в ответ – молчание. Мы к одному окну подойдем, к другому – тишина. Наконец за дверью что-то зашелестело, и старческий голос спросил:
– Это кто?
– Открывайте, свои! – ответил муж.
Дверь тут же распахнулась, и мы вошли в небольшую избу. Приятно пахло печкой, чуть кисловатой шерстью и свежим хлебом. Тепло-то как!
– Да вы раздевайтесь, раздевайтесь, – приветливо засуетилась хозяйка, худенькая небольшого роста женщина в ситцевом платочке. – Ой, ноги-то совсем мокрые! Я сейчас вам носки дам. Вот, надевайте, – и она протягивает нам толстые шерстяные носки. – Вы к столу-то поближе садитесь.
Изба чистенькая, по полу бегут пестрые половички, на кровати с подзором груда подушек, покрытых вязаными накидками (в Тверской области их накидушками называют), на окнах тоже белые вязаные занавески.
За столом сидит мужчина.
– Это мой сынок, Михаил, – говорит хозяйка, – он сам недавно пришел, а меня Настасьей звать.
Вот, значит, по чьим следам мы добирались! Я смотрю на Михаила с благодарностью. «Слава Богу, – думаю, – да если бы не он, не знаю, как бы мы и дошли».
– Мы ведь по вашим следам пришли. Вы часто сюда приезжаете?
– Да нет, не часто, только раз в год.
И этот «раз» совпал с нашим приездом!
Хозяйка достала из печки чугунок и высыпала в глубокую тарелку со щербинкой картошку.
– Поешьте, еще горяченькая.
Потом пододвинула к нам миску с большими солеными огурцами, крупно нарезанный лук, квашеную капусту. Муж достал из рюкзака наши московские гостинцы: сыр, копченую колбасу, мандарины.
– А вот еще кваску попробуйте, ох, хороший квасок, я его всегда к Мишенькиному приезду ставлю, он его очень уважает, – и наливает нам по полному стакану.
Я отхлебываю глоток. Да какой же это «квас»! Это же настоящая бражка, но действительно очень вкусная. И еще немного отпила.
Муж тоже полстакана выпил:
– Действительно, хорош квасок!
А Михаил уже прилично напробовался, сидит веселый и довольный, и видно, ему поговорить хочется. Все нам рассказал: и что в Мурманске живет, и про сыновей, и про жену («она у меня хорошая!»), и про свою работу на железной дороге.
– Мы мать сколько раз звали, да разве она поедет! В гости – и то не дозовешься.
– А козу я на кого оставлю? Я ведь на всю деревню одна осталась!
– А как же вы, – спрашиваю, – не боитесь?
– А кого бояться-то, если никого нет? Зверье сюда не идет. Да и запоры у меня крепкие.
– А если заболеете?
– А мне нельзя болеть: козу ведь поить и доить надо. Болеешь не болеешь, она ведь не понимает. Хоть и болеешь, а на озеро иди, там у меня прорубь.
Мой муж на печку забрался отогреваться, а мы еще долго с сыном хозяйки беседовали.
– Вы с ним всё о вере говорили, – недавно напомнил мне муж. – Ты ему про церковь и про покаяние, а он тебе: вот куплю холодильник, тогда и в церковь пойду. Я послушал, послушал, да и спать пошел.
Может, Михаил и говорил про холодильник, только я запомнила, что он все хотел что-то понять, что-то очень важное для себя, что его давно уже мучает и не дает покоя и над чем он так долго бьется. А что это, он и сам не знает.
– Вот смотри, все у меня есть: и квартиру получил, и жену люблю. Дети хорошо учатся, Санька – так тот вообще без троек, и получаю неплохо, я ведь даже на машину задумал накопить. Ну что, думаю, надо еще-то, как думаешь? Все ведь есть…
И пока Михаил рассуждал, я пыталась вспомнить: где же, где я уже слышала эти вопросы, когда и где? Да-да, в Кишиневе, когда гостила с дочкой у наших друзей. Однажды муж моей подруги Слава, веселый музыкант, который играл в ресторане на станции Страшены, и грустный поэт (он любил со мной «о жизни» разговаривать), стал мне жаловаться, что у него все не ладится, все не так, как хотелось бы. И я жалела и его, и свою подругу Милу. И вдруг Слава замолчал и удивленно посмотрел на меня: «Нет, здесь что-то не так, что-то неправильно. Ты живешь в столице, и я живу в столице, у меня двухкомнатная квартира, и у тебя, у меня есть жена, у тебя – муж, у меня ребенок, и у тебя. Но у меня к тому же еще и любимая работа, а у тебя ее нет, и машина у меня есть, и я могу поехать на море когда захочу. Так почему же ты мне сочувствуешь, а не я тебе?»
– А вот что надо – счастья! – вдруг делится своим неожиданным открытием Михаил. – Человек обязан быть счастливым! Ты согласна?
– Конечно, согласна! Вот именно, обязан!
И мы радуемся, что поняли друг друга.
Утром мы напились чаю, распрощались с хозяевами и пошли дальше.
– Вам вон туда надо, да здесь уж совсем близко, километра два, – кивнула куда-то вдаль бабушка Настя.
Тут мы и увидели, что кругом полыньи: видно, ключей где-то много бьет, вот вода и не замерзает. И как только вчера не утонули? Одна прорубь чего стоит, а мы ее в темноте даже не заметили.
До нужной деревни мы добрались удивительно легко: то ли выспались на теплой печке, то ли точно знали, куда идти. Но, уже подойдя совсем близко, вдруг по пояс провалились в сугроб. А дом-то – вот он, рядом, и мы видим, как писатель и его жена около дома ходят.
Мы стали звать писателя по имени и махать руками, стараясь обратить на себя внимание. Наконец нас заметили.
– Вы кто? – кричит писатель.
– Мы к вам приехали! – отвечаем мы из сугроба. – Как к вам попасть?
– А у нас тут спать негде!
– А дом?
– Дом сгорел, мы теперь в сарае живем.
– И мы будем в сарае!
– Вы журналисты из Москвы? – с явной неприязнью спрашивает писатель.
– Нет, мы не журналисты (как же хорошо, что мы не журналисты!), мы от Батюшки приехали, нас Батюшка к вам послал!
Писатель сразу смягчается:
– От Батюшки? Так бы и сказали. Тогда обходите слева.
И мы, продолжая радоваться, что не журналисты, вылезаем из сугроба. Нас приглашают в дом. Да какой же это сарай? Обычный деревенский дом, небольшой, правда, но все в нем есть: и печка, и стол, и кровать, – что же еще?
– Ну, давайте будем знакомиться, – улыбается нам писатель, протягивая руку.
Вот это да! Настоящий Дед Мороз: некрашеный овчинный полушубок, мягкие деревенские валенки своей валки, седые вьющиеся волосы выбиваются из-под меховой шапки с белой опушкой, яркие голубые глаза, румяное лицо. Будто на детскую елку собрался.
Мы называем свои имена.
– А это моя жена Оля.
Оля нам очень понравилась, сразу видно, что деревенский житель, – вон как с чугунками расправляется! И как же мы удивляемся, когда узнаём, что Оля – ленинградская художница, ей двадцать семь лет и живет она здесь всего лишь второй год. Выходит, что у них значительная разница в возрасте: писателю-то никак не меньше пятидесяти.
– Оля, скоро обед? – спрашивает писатель. – Вот и хорошо, тогда прошу к столу.
Мы садимся на лавки, которые стоят вокруг широкого, гладко выструганного стола. Оля наливает нам дымящиеся щи, вкусно пахнущие квашеной капустой.
– Как вы вовремя приехали, – говорит писатель. – Мне срочно в город надо на пару недель. Да и Олю хорошо бы на недельку отпустить, она мне тоже нужна будет. А вам тут скучать не придется. Надо бы стог поближе к дому перевезти, а то за сеном не наездишься. Да и скотный двор не мешало бы почистить: там и коровы, и лошадь, а еще две телки и бычок, и овцы есть – целое хозяйство. С этим пожаром у нас тут все запущено. В общем, поживите пока. Я завтра уеду, а вы Олю через три дня проводите на станцию. Через неделю вернется – встретите. С едой все в порядке, правда, мясо во время пожара сгорело, и молока сейчас нет – обе коровы стельные. А так и овощи, и картошка, подсолнечное масло тоже. Суп сварить можно. Да, еще грибы сушеные, вон там лежат, в бумажном мешке, так что не пропадете. А спать будете, – продолжает он, не давая нам вставить слово, – пока на раскладушке, там, где у нас овечка живет, нам ее пришлось в дом взять, а то ее остальные забивают. Мы ей выгородку сделали.
«Понятно, – думаю, – раз все сгорело, значит, приехали куда надо!»
– Ну, давайте за знакомство, – и писатель наливает нам по полстакана какой-то мутной жидкости. – Не бойтесь, это самогонка, своя, из ягод.
«Ну уж нет, – думаю, – хватит с меня вчерашнего “кваску”». И я делаю вид, что отпиваю глоток. А мужу пришлось немного выпить – никуда не денешься.
А дальше разговор пошел, как обычно, о смысле жизни, а так как хозяин, оказывается, любит Гумилева, то и о нем, конечно. «Я люблю бывать в России, потому что здесь сразу же говорят о самом главном» – так сказал однажды наш знакомый профессор богословия из Лондона. А недавно он вновь приехал к нам в гости и, сидя с чашкой чая на балконе и радуясь теплому вечеру, уточнил: «Вы в России имеете свободу говорить о самом главном». – «А в Англии о чем, о погоде?» – «Вот-вот, именно о погоде, – рассмеялся он, – это наша излюбленная тема». Но мы, слава Богу, живем в России и пользуемся своей свободой сколько хотим, находя отклик у собеседника. Только, в отличие от писателя, мы не являемся поклонниками творчества Гумилева: уж больно у него, как нам кажется, много надуманного, к тому же смущает его вольное обращение с историческими фактами. Это моему мужу как историку особенно не нравилось. Он и высказал свое мнение, попытавшись как можно больше смягчить его, поэтому мы никак не ожидали, что такие вроде бы, как нам показалось, незначительные замечания вызовут столь бурный протест. Хозяин вдруг так разволновался, что вскочил с лавки и, сверкая глазами, принял угрожающую позу. Я похолодела: «Неужели драться собрался?» – и стараюсь незаметно подать сигнал мужу: мол, не спорь с ним, он завтра уедет, и все. Поспешив перевести разговор на более спокойные темы, мы стали расспрашивать о его творчестве. Это нам, к счастью, удалось, и мы много интересного услышали. Конечно, писатель – человек очень незаурядный: умный, талантливый, образованный. «Просто надо чувствовать слабые стороны другого и стараться избегать взрывоопасных ситуаций», – с удовлетворением думаю я, довольная своими рассуждениями. «И часто у тебя это получается?» – тут же одергиваю я себя. Да все и так понятно!
– Это хорошо, что вы приехали, – повторяет писатель. – А то я тут три месяца назад с одним немного поцапался, топором в него запустил (все-таки я не зря волновалась!). Сам виноват, не надо было задираться. Да нет, ничего страшного, так, хватанул слегка по плечу, он полежал немного в больнице и вышел. А теперь, мне передали, собирается приехать сюда: «Я, – говорит, – этого так не оставлю!» Так что мне не хотелось бы, чтобы Оля тут одна была.
Потом он показал нам, как запрягать лошадь.
– Сбруя уж больно хороша, – отметил мой муж, – и сани удобные. Сразу видно, что здесь настоящий хозяин живет.
День, слава Богу, закончился мирно, и мы пошли спать к овечке за перегородку.
Наутро Оля запрягла Орлика и повезла писателя на станцию, а мы остались обживать дом. Муж принес воды, растопил печь, а я сварила грибной суп, и к Олиному приезду мы совсем освоились. Тот день был холоднее предыдущего, и Оля, вернувшись домой, села не раздеваясь у печки, чтобы немного согреться.
– А не страшно тебе одной по лесу ездить? – спрашиваю я.
– А я всегда его с собой ношу, – и вытаскивает из-за пазухи огромный нож. – Здесь, говорят, волков видели. Они на людей не охотятся, только на лошадей. Набрасываются сзади, ну и человеку, конечно, достается. Вот я и беру нож, чтобы обороняться.
Я не перестаю удивляться Оле: и откуда у нее только хватка такая? Да я и нож-то не успею достать, не то что «обороняться»!
– Тут у нас недавно такой случай был, – говорит Оля. – Поехал муж на станцию за хлебом, а я своими делами занялась. Прошло немного времени, вдруг вижу, Орлик несется, а мужа-то в санях нет. Я к нему: Орлик, ты что? что случилось? А он ушами прядет, глаза безумные и трясется весь. Ну, я схватила вот этот нож и к Орлику: давай назад, скорее, Орлик, миленький! А он уперся – и ни в какую, шарахается от меня. С трудом его уговорила. Он у нас на ласку отзывчивый. Все понимает, если с ним ласково. Отъехала немного – вижу, муж идет ругается. А Орлик опять затрясся, на дыбы встает.
– Совсем с ума сошел, – сердится муж, – елки испугался, – она вон там посреди дороги лежит – огромная, лохматая. Орлик как увидел ее, так и помчался назад и меня из саней вывалил.
Оля смеется, а я думаю: «Да, это хорошо сейчас смеяться, а смогла бы я вот так броситься в неизвестность?» Это раньше, наверное, такие женщины в селах жили, а теперь они все по городам разбрелись и приезжают в деревню только для того, чтобы остановить коня и войти в горящую избу. А что? Оля и в горящую избу входила. Она нам рассказывала, как спасала скотину, когда загорелся двухэтажный деревянный дом писателя. Сначала она вывела всех животных, а потом и из дома кое-какие ценные вещи успела выбросить. Скотину подальше отогнала, а сама на Орлика – и на станцию за пожарными. Пожарные, конечно, дом не потушили, зато изба, в которой они теперь живут, сохранилась, и скотный двор уцелел, да и на другие дома огонь не перекинулся. Писатель, правда, долго обижался, что она не все его рукописи сумела спасти.
Через три дня надо было Олю на станцию провожать, это где-то по лесу километров пятнадцать ехать надо.

