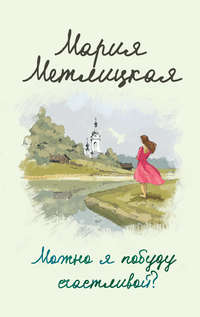
Можно я побуду счастливой?
А дальше рассказываю ей, что у нас происходит. Хотя я уверена – она и так в курсе всего. Ну как же она может не быть в курсе? Она ведь всегда держала руку на пульсе. Она все про нас знает, все видит, и нам от этого легче. Она следит – пристально следит, заинтересованно – все ли мы делаем так? Так, как нужно, как она нас учила? И мы чувствуем это.
Мы уже не плачем – давно отплакали. На ее могиле мы шутим и что-то вспоминаем – тоже что-то смешное, семейное.
Что она дала нам? Свое сердце, душу – да всё! Она научила нас быть людьми – а это самое-самое.
Мы, конечно, другие – у нас нет ее бескорыстия, доходящего до глупости, до идиотизма. Мы, наверное, подумаем, отдать ли последнее. Мы вообще сначала подумаем о себе, а уж потом о других. И все же мы не выросли подлецами, лгунами, бездельниками. В ведении дома мы почти приблизились к ее умению и таланту. Мы не рассматривали своих партнеров как средство улучшения качества жизни – может, и зря. Но этому бабушка нас не научила, потому что сама не имела представления об этом. Мы умеем трудиться. У нас есть друзья. И наша, уже не такая большая, семья всегда сплотится, если не дай бог…
Мой сын похож на бабушку внешне – прямой нос, зеленые глаза. И характер! В нем так много от нее, что иногда я просто теряюсь.
Никого не осталось в том городке, что под Минском. Никого и ничего, кроме старого пруда, затянутого ряской, желтых кувшинок, голубоватых стрекоз, кружащихся над мутной водой, старых и крепких дубов на пыльной и узкой центральной улице. И старого кладбища, густо заросшего осокой и бурьяном.
Несколько серых валунов с полустертыми надписями – ничего не поймешь, ничего…
И все же, гладя эти теплые, нагретые солнцем камни и разговаривая с ними, я верила, что меня слышат мои дальние предки.
И бабушке, думаю, это было приятно – при всем ее скепсисе, при отсутствии сентиментальности. Мне кажется – так.
Мы все – до сих пор – под огромным шатром ее безграничной любви и защиты.
И чувствуем это всегда.
Начало, пятидесятые
Моя двадцатидвухлетняя мама отстояла меня не без усилий и жестко – бабушка, потом, кстати, обожавшая меня без всякой меры, настаивала на аборте. Почему? Да все просто – видела зорким оком бесперспективность раннего и не совсем равного брака дочери. В чем, как всегда, оказалась права. Но мамино твердое «нет» решило мою судьбу.
В конце июля, числа, наверное, двадцать пятого, меня привезли в мою первую квартиру – огромную коммуналку на Петровских линиях.
Мало было счастливчиков, не наблюдавших деревянные кружки для унитазов, развешанные в рядок на гвоздях в общем туалете, не помнящих огромное, душное, во влажном пару, пространство коммунальной кухни, больше похожее на преисподнюю, где в ряд на кривоватом полу, выложенном коричневыми квадратиками метлахской плитки, стояли несколько газовых плит и маленькие, кривобокие столики – свой, личный, у каждой семьи. И множество звонков на деревянной панели у входной двери и надписи под ними: Гусевым – два звонка, Фельдманам – три, а Копопленко – уже все четыре.
Еще был общий звонок – так и писалось: «общий». Это для почтальона со срочной телеграммой, участкового врача, милиционера или старьевщика с заплечным мешком. Были в те времена еще и точильщики – мужички, как ни странно, довольно хилого вида, волочившие увесистый точильный станок. Их ждали и им радовались – ножи, ножницы, запчасти от мясорубок – все выносилось на лестничную площадку. Тут же выстраивалась очередь, терпеливая и умиротворенная. Хозяйки, оторвавшись от плит и тазов, с превеликим удовольствием давали себе передышку – шушукались и обменивались новостями – чаще всего, разумеется, квартирными сплетнями. С плохо скрываемой радостью, слегка по-садистски, поносили своих свекровей, мужей и детей.
Я прекрасно помню нашу первую квартиру – доходный дом напротив гостиницы «Будапешт» – второй этаж, окнами на Неглинку, на знаменитый юргенсоновский магазин «Ноты». Наискосок – Сандуновские бани. В квартире проживало тринадцать семей. У всех по комнате, а у счастливчиков и по две. Моя бабушка как раз была среди счастливчиков – путем сложных, многоходовых обменов у нас оказалось две комнаты. Правда, довольно скоро одну комнату бабушка отдала любимому брату, вернувшемуся из долгой командировки в Магадан. Московского жилья у него не было.
Отдала дальнюю комнату, запроходную, с выходом на черную лестницу – страшную, жутковатую, стылую, остро воняющую помойкой. На черной лестнице смело гулял ветер – наверное, из щелястых, никогда не конопаченных рам. Но имелось у комнаты неоспоримое достоинство – свой выход, отдельная дверь на эту самую «кухаркину» лестницу, именуемую в старые добрые времена входом для прислуги. Помню дверь, обитую черным дерматином: пухлую, с серой, грубо и бесстыдно выпирающей ватой – дверь в «отдельную» дядюшкину квартиру.
И вот итог «передела собственности» – точнее, переделывания: бабушкин брат получил отдельную квартирку – свой вход, с личной дверью. В коридорчике, узком, пройти только боком, была установлена электрическая плитка, подвешен рукомойник с ведром и – на тебе! – кухня. Жена его там и готовила, «на проходе», лишая себя «удовольствия» толкаться на общей и коммунальной.
Черной лестницы я побаивалась: темно, холодно, отвратительный запах помоев и табака – это была еще и курилка. Но бегать к тетке любила – та часто пекла пирожки.
Итак – бабушка комнату отдала.
– Это мой брат! – твердо объявила она. – И у него нет жилья.
Вот так просто. И правда, куда уж доходчивее?
Бабуля моя пару раз в жизни имела возможность побыть крезом или султаном Брунея. Но эту плохо знакомую роль исполняла она с большим блеском – превращала в театральное действо.
Сейчас это кажется неправдоподобным – запросто отдать комнату в центре. Ну а тогда подобные подарки были нормой. Как не поделиться с родными? «Да и зачем нам две комнаты?» – искренне удивлялась бабуля. Нам – это ей самой и маме-студентке. Про то, что красавица и умница мама наверняка скоро выскочит замуж (в девках женщины нашей семьи не задерживались, все мы «ранние»), бабушка не задумывалась. Как вообще не думала о материальном – никогда.
Была в бабушкиной жизни еще одна невероятная история: она подарила наследственное колье из бриллиантов. Причем сделала это ни минуты не раздумывая, раз – и готово! Тоже – брату. Этому странному и не вполне логичному поступку было простое и бесхитростное объяснение – Коленька высылает нашей мамочке десять рублей в месяц, а я не могу! Да и вообще – зачем мне бриллианты? Куда их носить?
Совестливая моя бабушка…
Бриллианты достались ее племянницам и золовке. Слава богу, все они были хорошими людьми. А для хорошего человека ведь ничего не жалко. Ну и третья попытка игры в богачку – пятьсот рублей, полученные в наследство от умершей подруги. Тогда еще вполне приличные деньги.
После выхода из сберкассы у бабули моментально изменилась походка и распрямилась спина, горделиво запрокинулась голова. Ну и взгляд стал соответствующим.
– Лови такси! – объявила бабушка, закуривая свою «беломорину». – Едем в Елисеевский!
Надо ли говорить, что у Елисеева мы скупили все, что было возможно? Помню икру по несусветной цене, сыр рокфор с зеленой плесенью, севрюгу и торт.
Гуляла моя бабушка. И откуда такие замашки? А остатки от наследства тут же, по приезде домой, отдала моей маме.
Думаю, если была бы возможность, бабуля моя сорила бы деньгами с удовольствием, не задумываясь. Но только возможностей не было.
Никогда не жалела денег на хороший кофе, шоколад или сыр. А на большее, кстати, все равно не хватало. Широта натуры ведь не всегда зависит от толщины кошелька. Далеко не всегда.
Или – нищим легче делиться? Может быть, так.
Квартира на Петровке была очень дружной, что тоже было не такой уж редкостью по тем временам. Мизантропы еще не расплодились в огромном количестве, все упрямо и с удовольствием верили в светлое будущее. Только пережили войну, помнили голод и холод и были счастливы оттого, что остались живы, вернулись из эвакуации, с фронта – да и просто от хорошего успели отвыкнуть. А до нового «хорошего» было ой как далеко! Кто-то и вовсе его не дождался.
Праздники – ноябрьские, майские, новогодние, дни рождения, свадьбы, поминки – отмечали вместе. Вместе радовались и горевали. Вместе смеялись и плакали. Вместе готовили, накрывали столы, собирали и дружно мыли посуду.
Но были, конечно же, на фоне жизнерадостного, оптимистичного, неизбалованного и очень терпеливого народа и изгои. В любое время процветают человеческие пороки.
Помню отлично семью – муж и жена. Он мужичок противный, склизковатый, похожий на усатую, разъевшуюся, жирную крысу. Но тихонький – скорее всего, просто трус: всегда помалкивал и бочком, бочком к себе в комнатку. «Отрывалась» жена – Антонина, Тонька, как звали ее за глаза. Тонька была старше своего муженька лет на двенадцать. Нервничала, наверное, что уйдет ее крысеныш к бабенке посвежее, вот и пасла его, как козла, – на короткой веревке. Работала она учителем физкультуры. Говорили – стучала. Скандалы обожала – расцветала, как маков цвет, пылала лицом и сверкала глазами. Могла бы легко и просто задавить необъятным бюстом или задницей, а уж если рот откроет – беда, cтрашное дело. Сплетница, хамка, грязнуля и жадина. Их не любили и к столу не приглашали.
Была еще семья художника, милые люди, но муж – пьяница и бузотер. Скандалил исправно, по расписанию, часто и громко. Как и многие художники, «главарь» семьи ничего не зарабатывал – кормильцем была жена. Их и жалели, и поносили, и подносили – кто миску с супом, кто пару котлет, кто пирожки. Народ наш всегда жалел нищих и пьяниц.
Помню странную пару – Наталья и Клавдий. Наталья – женщина-гора: высоченная, очень полная, с густыми седыми волосами на подбородке, одышливая, больная, почти неходячая, добрая и плаксивая. И он – крошечного росточка, с малюсенькими ножками в детских ботиночках, со странным, смешным, помятым и улыбчивым личиком. Женским каким-то личиком, что ли?
Наталья из комнаты почти не выходила – в магазин бегал шустрый Клавдий, обед готовил он же, давая полезные советы опытным хозяйкам. Странно, но к его советам прислушивались.
Спустя много лет я узнала историю их семьи и любви – и она меня потрясла. Наталья и Клавдия были подругами. Работали на одном заводе. Клавдия (или Клавдий?) был, к несчастью, гермафродитом. К сорока годам мужская часть его организма одержала победу над женской. И из Клавдии получился Клавдий. Он стал носить мужскую одежду, сделал мужскую стрижку – видимо, ощущал себя полноценным мужчиной. А их дружба с Натальей перешла в иное качество. Что уж там было на самом деле – уже никто не узнает. Может быть, дело в том, что выживать в паре всегда проще. Клавдий был очень заботливым мужем, внимательным, нежным, хорошо понимал нелегкую женскую долю. Наверное, женская генетическая память у него хорошо сохранилась. Жили они мирно и счастливо. Ну или просто мирно.
Помню дробный стук мальчиковых ботиночек на подбитых каблучках «для росту» – Клавдий, с вечной улыбкой на сморщенном старушечьем личике, спешит по коридору, неся любимой Наташеньке кастрюлечку с кашей.
Еще была одна прекрасная старушка – определенно из «бывших». Звали ее Вера Николаевна. Помню синие обои в ее комнате, кобальтовые чашки и разрозненные серебряные ложечки. К чаю подавались варенье в вазочке на тонкой крученой ножке и домашнее печенье с изюмом. На простой табуретке, прикрытой куском вытертого бархата, стоял старый патефон с пластинками – только классическая, оперная музыка. Слушала она ее часами. Слегка потрепанный, с костяными ребрами веер висел на стене – память о первом бале девицы Верочки Смоловой. Низкий абажур нависал над столом, покрытым гобеленовой скатертью с пушистыми кисточками на концах – кисточки эти я заплетала в косички, за что получала от бабушки нагоняй. На стене висела икона, под ней всегда горела лампадка. Напротив – фотографии статного красавца в военной форме. «Муж», – шепнула мне бабушка. Верочкин муж, белый офицер, погиб в Гражданскую. От голода умер новорожденный сын – сама Вера в то время погибала от сыпняка.
– Зачем я выжила? – до конца жизни удивлялась она. – Для чего? Для чего живу так долго? Чем прогневала Господа нашего?
Жила тихо и тихо умерла, не дождавшись расселения и отдельной квартиры. Помню сережки в ее аккуратных и красивых ушах – маленькие, бирюзовые, яркие, как и ее добрые, вечно слезящиеся глаза. Каждый день она выходила на променад – шляпка из потертого велюра, платочек на шее, перчатки, «помнящие многое», и крохотная кожаная сумочка на звонкой защелке, в которую она стыдливо прятала пролетарскую авоську – а вдруг что-то удастся достать?
Московские старушки, «арбатские» – так почему-то их назвали.
Их больше нет… нет даже похожих.
Была и еще одна замечательная пара, семья, польские аристократы – Ольга Алексеевна и Алексей Фелицианович. Происхождение свое, конечно, скрывали – чем хвастаться-то? Воспитанием или образованием? Хорошими манерами – да о чем вы? Все это было уже не в чести. Алексею Фелициановичу удалось уберечься – анкеты были исправлены, и бывший военный инженер служил на заводе простым работягой. В начале 30-х забрали их единственного сына. Сидел он в Ухтпечлаге, потом, видимо, оказался в ссылке и дальше – пропал. Никаких вестей от него больше не было.
Ольга Алексеевна была истинной аристократкой духа – ее уважали, с ней считались. Была она и замечательной хозяйкой – бабушка моя многому у нее научилась. Считалась она негласной «хозяйкой» квартиры – ложилась позже всех, проверяя перед сном запоры на входной двери и газовые конфорки. Составляла список квартирных дежурств. Не выходила на кухню без прически, не подкрасив губы. Никогда не носила халаты. Революцию называла «разволюцией». Так и говорила: «Это было до разволюции».
На стене в ее комнате висели старые фотографии – Олечка в широкополых, полупрозрачных летних шляпах, Олечка в маленьких шляпках с вуалью, в бархатном рединготе, в кружевной тальме.
В середине 50-х раздался звонок в дверь. На пороге стояла немолодая женщина с очень усталым лицом и потухшим взглядом. За руку она держала худенького белобрысого мальчика.
Оказалось, что женщина эта в ссылке сошлась с их сыном, родила ребенка, назвали Валерой. Ее муж, сын стариков, умер, а она с сыном выжила и вернулась в Москву. Конечно же, Ольга и Алексей мальчика признали и приняли. Женщина эта отдала им сына, почему – я, конечно, не знаю. Валерик рос у деда с бабушкой, которые его обожали. Мать приходила его навещать.
Алексей Фелицианович умер, Валерик вырос, женился и забрал старенькую бабушку к себе.
Были еще циркачи – дрессировщики пуделей. Они разъезжали по гастролям, а приехав домой, начинали отчаянно спекулировать – из Ташкента везли дыни и груши, из Молдавии персики и виноград, с Украины посуду – кастрюли, утятницы, из Белоруссии шерстяные носки, варежки, свитера и сухие грибы. Из Норильска копченую рыбу.
Открывал торговлю муж дрессировщицы – крошечный, пузатый и лысый хитрован. Торговался нещадно и цены не сбрасывал – плакался, что не на что кормить подопечных – от государства собачки получали сущие копейки. Народу становилось стыдно, и все утихали. Иногда, правда, приторговывал и костлявым мясцом – видимо, подопечные все же «делились».
Жена его носила странное имя Фиалка. Была она женщиной редкой, почти уникальной красоты и очень высокого роста (муж еле-еле доставал ей до плеча). На кухню Фиалка не выходила. Муженек варил ей кофе, покупал пирожные в Столешниках и относил все это на красивом старинном подносе в комнату. Обожал и прислуживал, очень старался. Наверное, всю жизнь боялся, что Фиалка уйдет.
Помню ее мельком – прошла, обдав запахом духов и цветочного крема. Пролетела, прошелестела шелковым пеньюаром, процокала домашними туфельками на каблучках. Нездешняя фея, нездешняя красота. Не ко времени пришлась бедная женщина, жалко…
Их, конечно же, тоже не любили и осуждали. Но ненависти к ним не было – все видели, как тяжело они пахали – неотапливаемые провинциальные гостинички и клубы, поезда, автобусы, переезды, перелеты на кукурузниках, заштатные шапито.
Еще была несчастная и тихая женщина Рита, никогда не поднимающая печальных глаз. Воспитывала она недвижимого сына – наверное, это был тяжелый ДЦП. Муж ее после рождения больного ребенка тут же, конечно же, исчез. Мальчик не сидел, не говорил – только открывал рот, когда мать подносила ложку с супом или кашей. В интернат она его не отдавала – говорила: «Ни за что и никогда». Покормив и умыв сына, Рита тут же бежала на работу – куда-то совсем недалеко, по-моему в ЖЭК. Прибегала днем – снова покормить и переодеть. Родных у нее не было. Отдельную квартиру они получили одни из первых.
Еще в квартире жила маленькая старушка, одетая во все черное. Ходила она только в церковь на службы и в булочную. На кухне никогда не топталась, в разговоры ни с кем не вступала, что-то бормотала себе под нос и постоянно крестилась. Никто про нее ничего не знал. Поговаривали, что в прежней жизни она была матушкой, женой расстрелянного попа.
Врач Сусанна, абхазка, слыла мастерицей-кулинаркой. Когда она колдовала на кухне, все стекались на запахи – свежая зелень, грецкие орехи, фасоль. Так тогда в Москве не готовили. Из Сочи часто приезжала ее родня – для них она и старалась. Ну и, конечно, лечила соседей – в любое время дня и ночи никому не отказывала – сделать уколы, примочки, померить давление.
Квартира часто ходила в Сандуны на «помыв» – всем составом. После бани на кухне накрывался стол.
В кинотеатр «Мир», что на Цветном, – тоже ходили вместе. Мама рассказывала, как всем скопом пошли на «Ночи Кабирии». Сеанс был вечерний, поздний. Впереди – молодежь, сзади гуськом семенили старушки.
В детстве наша комната мне казалась огромной. Разумеется, такой она не была – объем и кубатура увеличивались визуально благодаря высоченным потолкам – метров пять или около того – и огромным окнам.
Высоченные окна бабушка мыла и проклинала архитектора. Чтобы открыть верхние створки, приходилось ставить большую стремянку. И еще был подоконник. Скорее всего, гранитный, возможно мраморный, шириной не меньше метра. На нем меня «выгуливали» под открытым окном месяцев, наверное, до пяти.
Когда подросла, со мной ходили гулять в тогда еще очень пышный и зеленый сквер у Большого театра. Помню, как мы, дети, собирали там райские яблочки – ярко-красные, с черными пушистыми «хвостиками» и золотистым черенком. Хотелось их надкусить, но бабушка следила зорко. Но я все же ухитрилась однажды заныкать было яблочко в карман и тайно, исподтишка надкусить. Разочарование оказалось огромным – первое несовпадение внешнего вида и внутреннего содержания. Впрочем, варенье из райских яблочек было отменным.
Гуляли со мной еще на Горького, у памятника Долгорукому. На площади было голубиное царство – огромное море курлыкающих и клехтущих голубей. Людей голуби не боялись и настойчиво клянчили хлеб.
Возле дома на Петровке была сказочная булочная – в ней продавались калачи, с которых осыпалась мучная пыль. Конечно же, ели и «ручку», за которую держали калач в царские времена. Отсюда и пошло «дойти до ручки», то есть до крайней степени бедности. А советский народ ел – неужто выбрасывать такую вкуснотищу! В Филипповскую ходили за сайками, бубликами, рижским и заварным, пирожными и сдобными булочками. Московский хлеб был в то время прекрасен – впрочем, как и мороженое. Мы уже жили на Соколе, но все равно ездили в Филипповскую за любимыми калачами и бубликами.
Калачи, кстати, довольно скоро пропали. И кому они, интересно, мешали?
А бублики где?
Москвичи, конечно же, помнят прозрачные тележки с пломбиром в ГУМе, Пассаже и ЦУМе – тончайший вафельный стаканчик, а наверху шапочка шоколадного или ванильного мороженого с изюмом. Расхватывалось оно моментально – тележка пустела, и мороженщица резво ее увозила. Народ терпеливо ждал следующую. Работало это бесперебойно.
Мороженое московское тоже кануло в Лету. А про нынешний московский хлеб говорить просто больно.
За сыром и колбасой – конечно же, ходили к Елисееву или на Горького в «Диету». Что-то достать там можно было всегда, даже в самые скудные годы, естественно, отстояв огромную очередь. Был еще магазин «Сыр» – там же, на Горького. Но очередь меня не пугала – я обожала сказочный, похожий на королевский дворец, Елисеевский магазин. Бабушку не дергала – закинув голову, рассматривала разукрашенные потолки, бронзовые люстры, расписанные стены и портреты в золоченых рамах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов